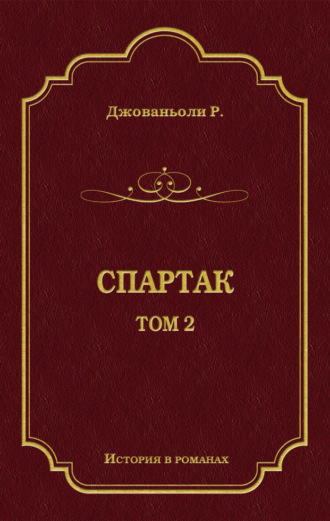
Рафаэлло Джованьоли
Спартак. Том 2
Голос Арторикса дрожал от волнения. Наконец он умолк и, склонив голову, покорно, с трепещущим сердцем ждал ее приговора.
Юноша говорил со все более возрастающим жаром, порожденным глубоким чувством, и Мирца слушала его с нескрываемым волнением: глаза ее стали огромными, и в них стояли слезы; она с трудом сдерживала рыдания, подступавшие к горлу. Когда Арторикс умолк, девушка от волнения вздохнула порывисто. Она стояла неподвижно, не чувствуя, что по лицу ее текут слезы, и полным нежности взглядом смотрела на склоненную перед ней белокурую голову юноши. Спустя минуту она промолвила еле слышным голосом, прерывающимся от рыданий:
– Ах, Арторикс, лучше бы ты никогда не думал обо мне! Еще лучше было бы, если бы ты никогда не говорил мне о своей любви…
– Значит, ты равнодушна ко мне, я противен тебе? – печально спросил галл, обратив к ней побледневшее лицо.
– Ты мне не безразличен и не противен, честный и благородный юноша. Любая девушка, богатая и прекрасная, могла бы гордиться твоей любовью… Но эту любовь… ты должен вырвать из своей души… мужественно и навеки.
– Почему же? Почему?.. – спросил с тоскою бедный гладиатор, с мольбой протягивая к ней руки.
– Потому что ты не можешь любить меня, – ответила Мирца, и голос ее был еле слышен сквозь рыдания. – Любовь между нами невозможна…
– Что?.. Что ты сказала? – прервал ее юноша, сделав к ней несколько шагов, как бы желая схватить ее за руку. – Что ты сказала?.. Невозможна?.. Почему невозможна? – горестно восклицал он.
– Невозможна! – повторила она твердо и сурово. – Я уже сказала тебе, невозможна!
И она повернулась, чтобы войти в палатку. Но так как Арторикс сделал движение, словно желая последовать за ней, она остановилась и, решительно подняв правую руку, сказала прерывающимся голосом:
– Во имя гостеприимства прошу тебя никогда не входить в эту палатку!.. Приказываю это тебе именем Спартака!
Услышав имя любимого вождя, Арторикс остановился на пороге, склонив голову. А Мирца, мертвенно бледная, подавленная горем, с трудом сдерживая слезы, скрылась в палатке.
Галл долго не мог прийти в себя. Изредка он шептал почти беззвучно:
– Не-воз-мож-на!.. Не-воз-мож-на!..
Из этого состояния его вывели оглушительные звуки военных фанфар: в лагере праздновали победу Спартака. Охваченный страстью, юноша, сжимая кулаки, посылал проклятия небу:
– Пусть ослепит меня своими молниями, пусть испепелит меня Таран, прежде чем я потеряю рассудок!
И, схватившись руками за голову, он покинул преторскую площадку; в висках у него стучало, он шатался, как пьяный. Из палаток гладиаторов доносились песни, гимны и радостные возгласы в честь победы под Аквином, одержанной Спартаком.
А Спартак тем временем во главе своих трехсот конников скакал во весь опор по римской дороге. Хотя последняя победа гладиатора навела страх на жителей латинских городов, Спартак считал опасным появляться днем на Аппиевой дороге и прилегающих к ней преторских дорогах с немногочисленным отрядом в триста человек; поэтому фракиец пускался в путь, только когда сгущались сумерки, а с наступлением рассвета укрывался в лесу, или на какой-нибудь патрицианской вилле, расположенной вдали от дороги, или в таком месте, где можно было укрепиться в случае неожиданного нападения. Так, быстро продвигаясь, он на третьи сутки после выступления из аквинского лагеря в полночь достиг Лабика, города, находившегося на равном расстоянии от Тускула и Пренесты, между Аппиевой и Латинской дорогами. Расположившись со своими всадниками лагерем в укромном и безопасном месте, вождь гладиаторов вызвал к себе командовавшего отрядом самнита и приказал дожидаться его тут в течение двадцати четырех часов. В случае, если Спартак по истечении этого срока не вернется, самнит должен был возвратиться в Аквин со всеми тремястами конниками той же дорогой и тем же порядком, как они шли сюда.
И Спартак один поскакал по преторской дороге, которая от Пренесты вела через Лабик в Тускул.
На очаровательных холмах, окружавших этот старинный город, расположены были многочисленные виллы римских патрициев, которые в летние месяцы приезжали сюда подышать целительным воздухом Латия и часто оставались здесь до глубокой осени.
Когда Спартак находился в двух милях от города, уже начинало светать. Он спросил у какого-то крестьянина, направлявшегося с мотыгой в поле, как проехать на виллу Валерии Мессалы, вдовы Луция Суллы. Крестьянин подробно рассказал. Спартак поблагодарил его, пришпорил своего вороного скакуна и, свернув на указанную тропинку, вскоре подъехал к вилле. Спешившись, он опустил на лицо забрало шлема, позвонил и стал ждать, когда привратник впустит его.
Тот, однако, не торопился, и когда наконец вынужден был открыть калитку, то ни за что не соглашался разбудить домоправителя и сообщить ему, что из Фракии, из когорты Марка Валерия Мессалы Нигера, который находится в этих краях на зимних квартирах в армии консула Лукулла, прибыл солдат и просит допустить его к Валерии, чтобы передать ей важные вести от двоюродного брата.
Спартаку удалось наконец уговорить привратника, но, очутившись перед домоправителем, он столкнулся с еще большими трудностями: старик домоправитель оказался еще более упрямым и несговорчивым, чем привратник, и ни за что не соглашался разбудить свою госпожу в столь ранний час.
– Вот что, – сказал наконец Спартак, решивший пуститься на хитрость, чтобы добиться желаемого, – ты, добрый человек, знаешь греческое письмо?
– Не только греческие, я и латинские-то буквы плохо разбираю…
– Да неужели на вилле не найдется ни одного раба-грека, который мог бы прочесть рекомендательное письмо, с которым трибун Мессала направил меня к своей двоюродной сестре?
Ожидая с некоторой тревогой ответа домоправителя, он делал вид, будто ищет пергамент за панцирем; если бы на вилле действительно оказался раб, умеющий читать по-гречески, Спартак заявил бы, что потерял письмо.
Но расчеты его оправдались: домоправитель, вздохнув, покачал головой и горько усмехнулся:
– Все рабы бежали с этой виллы, и греки и не греки, в лагерь Спартака… – И, понизив голос, угрюмо добавил: – Да испепелит Юпитер своими молниями этого гнусного, проклятого гладиатора!
Спартака обуял гнев, и, хотя перед ним был старик, он с удовольствием стукнул бы его кулаком, но, одолев это искушение, спросил домоправителя виллы Валерии:
– Почему же ты говоришь так тихо, когда ругаешь гладиатора?
– Потому… потому… – бормотал смущенный домоправитель, – потому что Спартак принадлежал к челяди Валерии и ее супруга, великого Суллы; он был ланистой их гладиаторов, и Валерия, моя добрейшая госпожа, – да покровительствуют ей на многие лета великие боги! – проявляет слабость к этому Спартаку, считает его великим человеком… и решительно запрещает дурно говорить о нем…
– Вот злодейка! – воскликнул Спартак с веселой иронией.
– Эй ты, солдат! – вскричал домоправитель и, попятившись от Спартака, смерил его с ног до головы суровым взглядом. – Мне кажется, ты дерзко говоришь о моей превосходнейшей госпоже!..
– Да нет же!.. Я не хочу сказать ничего дурного, но, если благородная римская матрона сочувственно относится к гладиатору…
– Да я ведь сказал тебе… это ее слабость…
– Ага, понимаю! Но если ты, раб, не желаешь и не можешь порицать эту слабость, мне, свободному, надеюсь, ты это разрешишь!
– Да ведь во всем виноват Спартак!
– Ну конечно, клянусь скипетром Плутона!.. Я тоже говорю: во всем виноват Спартак… клянусь Геркулесом! Подумать только, осмелился внушить к себе симпатию великодушной матроны!
– Да, внушил. Этакий мерзкий гладиатор!
– Вот именно – мерзкий!
Но тут, прервав свою речь, фракиец спросил совсем другим тоном:
– Скажи мне все-таки, что тебе сделал дурного Спартак? За что ты так сильно ненавидишь его?
– И ты еще спрашиваешь, что плохого мне сделал Спартак?
– Да, спрашиваю. Говорят, этот плут провозгласил свободу рабам, а ведь ты тоже раб, и, мне кажется, тебе, наоборот, следовало бы питать добрые чувства к этому проходимцу.
И, не дав старику времени ответить, тут же добавил:
– Если только ты не притворяешься!
– Я притворяюсь?! Это я-то притворяюсь?.. О, пусть Минос будет милостив к тебе в день суда над тобою… Да и к чему мне притворяться? Из-за безумной затеи этого негодяя Спартака я стал самым несчастным человеком. Хотя я и был рабом у добрейшей Валерии, при мне были мои сыновья, и я был счастливейшим из смертных!.. Двое красавцев! Если бы ты их видел!.. Если бы ты их знал! Они близнецы! Да хранят их боги. Такие красавцы и так похожи друг на друга, как Кастор и Поллукс!..
– Но что же случилось с ними?
– Оба бежали в лагерь гладиатора, и вот уже три месяца, как нет от них никаких вестей… Кто знает, живы ли они еще!.. О великий Сатурн, покровитель самнитов, сохрани жизнь моим дорогим, моим прекрасным, моим горячо любимым детям!
Старик горько заплакал, и его слезы растрогали Спартака.
Помолчав немного, он сказал домоправителю:
– Ты, значит, считаешь, что Спартак поступил плохо, решив дать свободу рабам? Ты думаешь, что твои сыновья поступили дурно, присоединившись к нему?
– Клянусь всеми богами, покровителями самнитов! Конечно, они нехорошо поступили, восстав против Рима. О какой такой свободе болтает этот сумасброд гладиатор? Я родился свободным в горах Самния. Началась гражданская война… Наши вожди кричали: «Мы хотим добиться прав гражданства, которыми пользуются латиняне, как для нас, так и для всех италийцев!» И мы подняли восстание, мы дрались, рисковали жизнью… Ну а потом? А потом я, свободный пастух-самнит, стал рабом Мессалы. Хорошо еще, что я попал к таким благородным и великодушным хозяевам. Рабыней также стала и жена свободного самнита и родила детей в рабстве, и… – Старик на минуту умолк, затем продолжал: – Бредни! Мечты! Выдумки! Мир был и всегда будет делиться на господ и рабов, богатых и бедных, благородных и плебеев… и так он всегда будет разделен… Выдумки! Мечты! Бредни!.. В погоне за ними льется драгоценная кровь, кровь наших детей… И все это ради чего? Что мне до того, что в будущем рабы будут свободны, если ради этого погибнут мои дети? Зачем мне тогда свобода? Для того чтобы оплакивать моих сыновей? О, я тогда буду богат и счастлив… и смогу проливать слезы, сколько мне будет угодно! Ну а если дети мои останутся живы… и все пойдет как нельзя лучше, и завтра мы все будем свободны? Что же тогда? Что мы будем делать с нашей свободой, раз у нас ничего нет? Сейчас мы живем у доброй госпожи, живем у нее в достатке, есть у нас все необходимое и даже больше того. Если мы станем свободными, то пойдем работать на чужих полях за такую скудную плату, на которую не купишь даже самого необходимого… Вот мы будем счастливы, когда получим свободу… умирать с голоду!.. То-то будем счастливы!..
Старый домоправитель закончил свою речь, вначале грубую и бессвязную, но приобретавшую силу и энергию по мере того, как он говорил.
Выводы, которые он сделал, произвели на Спартака глубокое впечатление; фракиец склонил голову, погрузившись в глубокие и скорбные думы.
Наконец он встрепенулся и спросил домоправителя:
– Значит, здесь на вилле никто не знает греческого языка?
– Никто.
– Дай-ка мне палочку и дощечку.
Разыскав то и другое, домоправитель подал их солдату. Тогда Спартак на слое воска, покрывавшем дощечку, написал по-гречески две строки из поэмы Гомера:
Я пришел издалека, о женщина, милая сердцу,
Чтобы пылко обнять твои, о царица, колени.
Протянув домоправителю дощечку, Спартак сказал:
– Отдай это сейчас же служанке твоей госпожи. Пускай она разбудит матрону и передаст ей эту дощечку, не то и тебе и рабыне плохо придется.
Домоправитель внимательно рассмотрел дощечку с начертанными на ней непонятными значками, поглядел на Спартака, который в задумчивости медленно прогуливался по дорожке, и, решив, по-видимому, исполнить приказание, направился к вилле.
Спартак продолжал прохаживаться по дорожке и, то убыстряя, то замедляя шаги, дошел до площадки, расположенной перед самой виллой. Слова старого самнита смутили фракийца.
«Да ведь он прав, клянусь всеми богами Олимпа!.. Если погибнут в боях за свободу сыновья, что же будет радовать его на старости лет? – думал Спартак. – Мы победим, но ему-то что даст свобода, которая придет рука об руку с нищетой, голодом и холодом?.. Он прав!.. Да… Но тогда… Чего же я хочу, к чему стремлюсь?.. Кто я?.. Чего добиваюсь?..»
Он остановился на мгновение, словно испугавшись заданных самому себе вопросов; потом опять медленно зашагал, склонив на грудь голову под бременем гнетущих мыслей.
«Следовательно, то, чего я добиваюсь, – лишь химера, пленившая меня обманчивым обликом правды, и я гоняюсь за призраком, которого мне никогда не догнать? Если я и настигну его, он рассеется, словно туман, а мне будет казаться, что я крепко держу его. Что же это? Только сновидение, греза, пустая фантазия? И ради своих бредней я проливаю потоки человеческой крови?..»
Подавленный этими мыслями, он остановился, потом сделал несколько шагов назад, как человек, на которого наступал невидимый, но грозный враг – раскаяние. Но, тотчас же придя в себя, он высоко поднял голову и зашагал твердо и уверенно.
– Клянусь молниями всемогущего Юпитера Олимпийского, – прошептал он, – где же это сказано, что свобода неразлучна с голодом и человеческое достоинство может быть облачено только в жалкие лохмотья самой грязной нищеты? Кто это сказал? В каких божественных скрижалях это начертано?
Поступь Спартака вновь стала твердой и решительной; видно было, что к нему возвращалась обычная бодрость.
«О, – размышлял он, – теперь ты явилась ко мне, божественная истина, сбросив с себя маску софизмов, теперь ты передо мной в сиянии твоей целомудренной наготы, ты вновь укрепила мои силы, успокоила мою совесть, придала мне бодрость в моих святых начинаниях! Кто, кто установил различия между людьми? Разве мы не рождаемся равными друг другу? Разве не у всех у нас то же тело, те же потребности, те же желания?.. Разве не одни и те же у всех у нас чувства, восприятие, ум, совесть?.. Разве жизненные потребности не являются общими для всех? Разве не все мы вдыхаем один и тот же воздух, не питаемся одинаково хлебом, не утоляем жажду из одних и тех же источников? Может ли быть, чтобы природа установила различия между людьми, населяющими землю?.. Может ли быть, чтобы она освещала и согревала теплыми лучами солнца одних, а других обрекала на вечный мрак?.. Разве роса, падающая с неба, для одних полезна, а для других пагубна? Разве не родятся все люди одинаково через девять месяцев после зачатия, будь то дети царей или дети рабов? Разве боги избавляют царицу от родовых мук, которые испытывает несчастная рабыня?.. Разве патриции наслаждаются бессмертием и умирают по-иному – не так, как плебеи?.. Разве тела великих мира сего не подвергаются тлену так же, как и тела рабов?.. Или, может быть, кости и прах богачей отличаются чем-либо от праха и костей бедняков?.. Кто же, кто установил это различие между одним человеком и другим, кто первый сказал: “Это – твое, а это – мое” – и присвоил себе права своего родного брата?.. Это, конечно, был насильник, который, пользуясь своей физической силой, придавил своим могучим кулаком выю слабого и угнетенного!..
Но если грубая сила послужила для совершения первой несправедливости, насильственного присвоения чужих прав и установления рабства, отчего же мы не можем воспользоваться своей силой для того, чтобы восстановить равенство, справедливость, свободу? И если мы проливаем пот на чужой земле, чтобы вырастить и прокормить наших сыновей, отчего же мы не можем проливать нашу кровь для того, чтобы освободить их и добиться для них прав?..»
Спартак остановился и, вздохнув, с глубоким удовлетворением закончил свои размышления:
«Да ну его!.. Что он сказал?.. Бессильный, малодушный, закосневший в рабстве, он совсем забыл, что он человек, и, подобно волу, бессознательно влачит тяжесть своего ярма, забыв о достоинстве и разуме!»
В эту минуту вернулся домоправитель и сказал Спартаку, что Валерия поднялась и ждет его в своих покоях.
С сильно бьющимся сердцем Спартак поспешил на зов; его ввели в конклав Валерии. Матрона сидела на маленьком диванчике. Спартак запер дверь изнутри, поднял забрало и бросился к ногам Валерии.
Не проронив ни звука, она обвила руками его шею, и уста их слились в горячем поцелуе; они словно застыли, прильнув друг к другу, безмолвные и неподвижные, охваченные безмерной радостью.
Наконец они освободились от объятий и, откинувшись назад, стали созерцать друг друга, бледные, взволнованные и потрясенные.
Валерия была одета в белоснежную столу; ее черные густые волосы распустились по плечам, глаза сияли, и все же на ресницах дрожали крупные слезы. Она первая прервала молчание.
– О Спартак! Мой Спартак!.. Как я счастлива, как счастлива, что вижу тебя! – тихо произнесла она.
А затем опять обняла его и, целуя, говорила прерывающимся голосом:
– Как я боялась за тебя!.. Как я страдала!.. Сколько слез пролила, все думала об опасностях, которые угрожают тебе, и так за тебя боялась… Ведь только ты один владеешь всеми моими помыслами; каждое биение моего сердца, верь мне, посвящено одному тебе… ты первая и последняя… единственная… настоящая любовь в моей жизни!
И, продолжая ласкать его, она засыпала его бесчисленными вопросами:
– Скажи мне, мой дивный Аполлон, скажи мне, как ты решился явиться сюда?.. Ты, может быть, идешь со своим войском на Рим? Не грозит ли тебе какая-нибудь опасность, пока ты находишься тут? Ты расскажешь мне подробно о последнем сражении? Я слышала, что под Аквином ты разбил восемнадцать тысяч легионеров… Когда же окончится эта война, которая заставляет меня каждый час дрожать от страха за тебя? Ты ведь добьешься свободы? А тогда ты сможешь вернуться в свою Фракию, в счастливые края, где некогда обитали боги…
Она умолкла, а потом продолжала еще более нежным и проникновенным голосом:
– Туда… последую за тобой и я… буду жить там вдали от всех, от этого шума, рядом с тобой… и буду всегда любить тебя, доблестного, как Марс, и прекрасного, как Апполон, я буду любить тебя всеми силами души, возлюбленный мой Спартак!
Гладиатор грустно улыбнулся: то были только прекрасные, несбыточные мечты, которыми влюбленная женщина старалась расцветить их будущее, и, лаская ее черные волосы, целуя ее в лоб и прижимая к своему сердцу, он тихо произнес:
– Война будет долгой и суровой… И я почту за счастье для себя, если мне удастся увести освобожденных рабов в их родные страны… А для того чтобы установить справедливость и равенство на земле, понадобится война народов, которые восстанут не только против Рима, властителя мира, но и против хищных волков, против ненасытных патрициев, против касты привилегированных в их собственных странах!
Эти последние слова гладиатор произнес с такой горечью и так печально покачал головой, что было ясно, как мало он верил в возможность дожить до победы великого начинания.
Поцелуями и ласками Валерия старалась успокоить вождя гладиаторов; ей удалось развеять печаль, омрачавшую его чело.
Присутствие маленькой Постумии, ее милые шалости, улыбки, детское щебетание увеличивали их счастье. Милое личико девочки освещалось живым блеском больших черных глаз, которые так гармонировали с густыми белокурыми локонами, украшавшими ее головку.
Надвигались сумерки, и тихая печаль закралась в ту радость, что на краткие часы посетила уединенный конклав Валерии; вместе с солнечным светом из этого дома, казалось, уходило и счастье.
Спартак поведал своей любимой, как ему удалось пробраться к ней, и прибавил, что как предводитель восстания, которому до сих пор сопутствует счастье, он считает своим непреложным, священным долгом вернуться этой же ночью в Лабик, где его ждет отряд конницы.
Слова Спартака повергли Валерию в отчаяние; она не переставала твердить голосом, прерывающимся от рыданий, что ее сердце сжимается от тяжкого предчувствия; если она теперь отпустит Спартака, то больше никогда уж не увидит его, что она в последний раз слышит его голос, голос человека, пробудившего в ее душе истинное, глубокое чувство.
Спартак старался успокоить Валерию, осушить ее слезы, горячо целуя ее, шептал нежнейшие слова, ободрял и утешал, смеясь над ее предчувствиями и страхами. Но страх, по-видимому, закрался также и в сердце Спартака; улыбка его была вымученной, печальной; слова не шли с языка, в них не было огня, не было жизни. Он чувствовал, как, помимо его воли, им овладевают мрачные мысли и в душу закрадывается уныние, от которого он никак не может освободиться.
В таком состоянии оба пребывали до того мгновения, когда вода, капавшая в стеклянный шар клепсидры[7], стоявшей на поставце у стены, не поднялась до шестой черты, обозначавшей шестой час утра. Тогда Спартак, который часто тайком от Валерии поглядывал на клепсидру, освободился из объятий возлюбленной и стал надевать латы, шлем и меч.
Дочь Мессалы, нежно обвив руками шею Спартака, прижалась бледным лицом к его груди, подняв на гладиатора свои блестящие черные глаза, выражавшие глубокую нежность. В этот миг она была так прекрасна, что превосходила красотою греческих богинь. Дрожащим голосом, подавленная горем, она говорила:
– Нет, Спартак, нет, нет… не уезжай, не уезжай… ради всех твоих богов… ради дорогих твоему сердцу… умоляю тебя… заклинаю… Дело гладиаторов на верном пути… у них храбрые военачальники… Крикс… Граник… Эномай… Они поведут их, не ты… нет… нет!.. Спартак, ты останешься здесь… моя нежность… безграничная преданность… безмерная любовь… окружат лаской… радостью… твое существование…
– Валерия, дорогая Валерия… ты не можешь желать, чтобы я сделал подлость… чтобы я совершил позорный поступок, – говорил Спартак, стараясь высвободиться из объятий любимой подруги. – Я не могу… не могу… не имею права… Да разве я могу изменить тем, кого я призвал к оружию… тем, кто доверился мне… кто ждет меня… кто зовет меня к себе?.. Валерия, я боготворю тебя, но не могу изменить своим товарищам по несчастью… Не требуй от меня, чтобы я стал недостойным тебя… не вынуждай меня стать существом презренным в глазах людей и самого себя… Не старайся властью своих чар лишить меня мужества, лучше поддержи меня… подними мой дух… отпусти… отпусти меня, любимая моя Валерия!
Валерия в отчаянии прильнула к возлюбленному, а он старался освободиться из ее объятий. В конклаве слышались то звуки поцелуев, то слова горячей мольбы.
Наконец Спартак, бледный, с набегающими на глаза слезами, призвав на помощь все свое мужество и пересиливая самого себя, разжал руки Валерии, отнес ее, обессилевшую от горя, на ложе; она, закрыв лицо руками, разразилась громкими рыданиями.
Тем временем фракиец, бессвязно бормоча слова надежды и утешения, надел латы, шлем и опоясался мечом, собираясь проститься и в последний раз поцеловать любимую женщину. Но когда он уже был готов покинуть ее, Валерия вдруг порывисто поднялась и, сделав шаг, в отчаянии упала у двери; обняв колени своего возлюбленного, она шептала, задыхаясь от рыданий:
– Спартак, дорогой Спартак… я чувствую вот здесь, – и она указывала на свое сердце, – что я больше не увижу тебя… Если уедешь, то больше не увидишь меня… я знаю это… я это чувствую… Не уезжай… нет… не сегодня… не сегодня… умоляю тебя… ты уедешь завтра… но не сегодня… нет… заклинаю тебя… не сегодня… не сегодня… молю тебя!
– Я не могу, я не могу… я должен ехать.
– Спартак… Спартак, – говорила она слабеющим голосом, с мольбой простирая к нему руки, – умоляю тебя… ради нашей дочери… ради до…
Она не успела договорить – фракиец поднял ее с пола, судорожно прижал к груди, прервав ее речь и рыдания.
Несколько мгновений они не двигались, прижавшись друг к другу, слышно было только их дыхание, слившееся воедино.
Овладев собой, Спартак тихим и нежным голосом сказал Валерии:
– Валерия, дивная Валерия!.. В моем сердце я воздвиг тебе алтарь, ты – единственная богиня, которой я поклоняюсь, перед которой благоговею. В минуты самой грозной опасности ты внушаешь мне мужество и стойкость, мысли о тебе вызывают у меня благородные помыслы и вдохновляют меня на великие дела. Так неужели ты хочешь, Валерия, чтобы я обесчестил себя, чтобы меня презирали и современники и потомство!
– Нет, нет… я не хочу твоего бесчестья… хочу, чтобы имя твое было великим и славным, – шептала она, – но ведь я только бедная женщина… пожалей меня… уезжай завтра… не сегодня… не сейчас… не так скоро…
Бледное, заплаканное лицо ее покоилось на груди Спартака; печально и нежно улыбнувшись, она прошептала:
– Не отнимай у меня этого изголовья… Мне здесь так хорошо… так хорошо!
И она закрыла глаза, как бы желая еще больше насладиться прекрасным мгновением; по ее лицу блуждала улыбка, но оно походило скорее на лицо умершей, чем живой женщины.
Склонившись к Валерии, Спартак смотрел на нее взглядом, полным глубокого сострадания, нежности, любви, и голубые глаза великого полководца, презиравшего опасности и смерть, наполнились сейчас слезами; они катились по его лицу, падали на латы… Валерия, не открывая глаз, шептала:
– Смотри, смотри на меня, Спартак… вот так, с нежностью… с любовью… Я ведь вижу, даже не открывая глаз… я вижу тебя… Какое ясное чело… какие глаза, сияющие и добрые! О мой Спартак, как ты прекрасен!
Так прошло еще несколько минут. Но стоило только Спартаку сделать легкое движение – он хотел поднять Валерию и отнести ее на ложе, – как она, не открывая глаз, еще сильнее обвив руками шею гладиатора, прошептала:
– Нет… нет… не двигайся!..
– Мне пора. Прощай, моя Валерия!.. – шептал ей на ухо дрожащим от волнения голосом бедный рудиарий.
– Нет, нет!.. Подожди!.. – произнесла Валерия, испуганно открывая глаза.
Спартак не ответил ей. Взяв в руки ее голову, он покрывал горячими поцелуями ее лоб; а она, ласкаясь к нему, как ребенок, говорила:
– Ведь ты не уедешь этой ночью?.. Ты уедешь завтра… Ночью… в поле так пустынно; ты ведь знаешь, так темно… такая мрачная тишина… так страшно ехать ночью… когда я подумаю об этом, меня охватывает озноб… я вся дрожу…
Бедная женщина действительно задрожала всем телом и теснее прижалась к возлюбленному.
– Завтра!.. На рассвете!.. Когда взойдет солнце и вся природа начнет оживать… на тысячу ладов весело запоют птицы… после того, как ты обнимешь меня… после того, как покроешь поцелуями головку Постумии… после того, как наденешь на шею под тунику вот эту цепочку с медальоном…
И она показала ему осыпанный драгоценными камнями медальон, который на тоненькой золотой цепочке висел на ее белой шее.
– Внутри этого медальона, Спартак, находится драгоценный амулет, который спасет тебя от любой опасности… Угадай же, угадай, что там внутри, что это за амулет.
И так как гладиатор не отвечал, а только смотрел не отрываясь на красавицу, она, улыбнувшись сквозь слезы, произнесла с нежным укором:
– Неблагодарный! Ты не догадываешься, что там может быть?
Сняв с шеи цепочку и открыв медальон, Валерия сказала:
– В нем черный локон матери и белокурый локон дочери!
И показала рудиарию две прядки волос внутри медальона. Спартак схватил его, поднес к губам и покрыл горячими поцелуями.
Взяв медальон у Спартака, Валерия в свою очередь поцеловала его и, надев цепочку на шею гладиатора, сказала:
– Носи его под панцирем, под туникой, на груди – вот где он должен быть!
У Спартака сердце щемило от невыносимой тоски, говорить он не мог, только прижимал к груди свою любимую, и крупные слезы тихо катились по его лицу.
Вдруг послышался звон оружия и чьи-то громкие голоса; этот шум, раздававшийся на площадке перед виллой, достиг уединенного конклава, где находились Спартак и Валерия.
Оба они, сдерживая дыхание, напрягли слух.
– Мы не откроем ворот таким разбойникам, как вы! – кричал кто-то на ломаном латинском языке.
– А мы подожжем дом, – слышались озлобленные голоса.
– Клянусь Кастором Поллуксом, мы будем метать в вас стрелы! – отвечал первый голос.
– Что? Что там могло случиться?.. – в сильном волнении спросила Валерия, подняв испуганные глаза на Спартака.
– Может быть, разузнали, что я здесь, – ответил фракиец, стараясь освободиться из объятий Валерии, которая при первой же угрозе еще теснее прижалась к Спартаку.
– Не выходи… не двигайся… умоляю… Спартак… умоляю!.. – взволнованно шептала несчастная женщина, и на мертвенно-бледном лице ее отражались мучительный страх и тревога.
– Значит, ты хочешь, чтобы я отдался живым в руки врагов?.. – произнес тихим, но гневным голосом вождь гладиаторов. – Ты хочешь видеть меня распятым на кресте?..
– О нет, нет!.. Клянусь всеми богами ада!.. – в ужасе вскрикнула Валерия и, выпустив из объятий возлюбленного, отступила от него в смятении.
Решительным движением она выхватила из ножен тяжелый испанский меч, висевший у Спартака на поясе, и, с трудом подняв его двумя руками, подала гладиатору, сказав чуть слышно и стараясь придать своему голосу твердость:
– Спасайся, если это возможно… а если суждено тебе умереть – умри с мечом в руке!
– Благодарю тебя!.. Благодарю, моя Валерия! – сказал Спартак, приняв от нее меч; глаза его сверкали, он шагнул к дверям.
– Прощай, Спартак! – произнесла дрожащим голосом бедная женщина, обняв гладиатора.
– Прощай! – ответил он, сжав ее в объятиях.
Но губы Валерии вдруг побелели, и рудиарий почувствовал, что ее тело как мертвое повисло у него на руках, а голова бессильно упала на его плечо.
– Валерия!.. Валерия!.. Дорогая Валерия!.. – восклицал фракиец прерывающимся голосом и с невыразимой тревогой всматривался в любимую женщину. Лицо его, еще недавно пылавшее гневом, теперь покрылось восковой бледностью. – Что с тобой?.. Да поможет нам Юнона!.. Валерия… Красавица моя, что с тобой? Мужайся? Умоляю тебя!
Бросив на пол меч, он поднял любимую, осторожно отнес на ложе и, став перед ней на колени, ласкал, ободрял, согревал ее своим дыханием и поцелуями.
Валерия лежала неподвижная, бесчувственная ко всем его словам, как будто не обморок, а смерть поразила ее. Страшная мысль пронизала мозг Спартака. Быстро вскочив, он всматривался в лицо любимой расширившимися от страха глазами. Бледная, недвижимая, она была еще прекраснее; дрожа всем телом, он глядел на ее бледные уста, стараясь уловить признаки дыхания; приложив руку к ее груди, он почувствовал, что сердце медленно и слабо бьется. Вздохнув с облегчением, Спартак бросился к маленькой двери, которая вела в другие покои Валерии, и, подняв занавес, крикнул несколько раз:
– Софрония!.. Софрония!.. Скорее сюда!.. Софрония!
В эту минуту послышался осторожный стук в дверь, в которую он собирался выйти. Спартак прислушался: сильный шум и крики, долетавшие снаружи, прекратились, но тотчас же снова раздался стук и мужской голос произнес:





