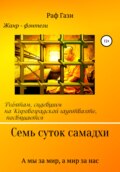Раф Гази
Я помню это было в детстве
Но Восток не сдался, он ушел вглубь, он скрылся от новых веяний за высокими глиняными дувалами в толще своего трехтысячелетнего фундамента и только сделал вид, что покорился и принял другие правила игры. На поверхностный взгляд, могло показаться, что Восток на каком-то витке истории стал красным, но это была только видимость, мимикрия, возможно, мираж. Восток как был зеленым, впрочем, скорее не зеленым, а многоцветным, таким он и остался. Ничто не может поколебать его вековых устоев и традиций. Восток, затаившись, словно кобра перед прыжком, всегда ждал удобного момента, чтобы сбросить со своего тела наносную, чужеродную, искусственно навязанную ему идеологию, и стоило имперскому центру чуть зашататься, слегка выпустить бразды правления, немножко ослабить давление, как тут же в мгновение ока все чуждое ему было смыто одной огромной волной, – и миру вновь явился первобытный и загадочный лик Востока.
Восток по-своему перемолол и приспособил наследие, доставшееся ему от Советской власти. Не все новые народы, депортированные в Среднюю Азию жестокой волей Сталина или прибывшие по своей доброй воле, смогли здесь прижиться. Турки-месхи, которые, как поговаривали, захватили все выгодные места в торговле, после повсеместных погромов уехали почти вчистую. Еще раньше в свои горы подались свободолюбивые чеченцы, только и ждавшие разрешения вернуться на историческую родину и не пустившие потому в песках и оазисах Кызылкумов глубоких корней. Стали посматривать на Запад и трудолюбивые немцы, удивившие местный люд своей организованностью, чистоплотностью и порядком. Вместе с ними, когда железный занавес был приоткрыт, начали свой исход в Землю обетованную бухарские евреи, хотя иудеи обосновались в Согдиане одновременно, если не раньше кочевников-тюрков и по внешнему облику и по языку (не идиш, не иврит, а фарси) почти уже не отличались от таджиков. Крымским татарам, наверное, легче других было прижиться на этой по-своему гостеприимной и благодатной земле – их ментальность, язык (тюрки), религия (ислам) более удобно накладывались на местные традиции. Однако и они, научив коренных жителей выращивать томаты, перец и другие неведомые здесь ранее культуры, потянулись в Крым осуществлять свою национальную идею. Как ни странно, прочнее всех укоренились в Средней Азии корейцы. Хотя, казалось бы, что их тоже достаточно древняя культура с почти забытым буддизмом абсолютно не стыкуется с исламом. Однако на базаре ни один согдиец не пройдет мимо корейского торговца. Даже если его оставят равнодушными острейшие национальные закуски типа маркавчи или чимчи, то уж рис для плова он непременно купит у корейца, поскольку всем известно, что представители именно этого народа – лучшие в мире мастера по выращиванию риса. Удивительно, но коренные жители смотрят сквозь пальцы даже на такую причуду корейцев, как шашлык из собачатины, хотя собака в исламской, так же как, кстати, и в индуской, традиции считается нечистым животным, и есть ее – харам. Такую гибкость и пластичность корейцы проявляют не от хорошей жизни: в отличие от других депортированных железной рукой «Усатого диктатора» народов им просто некуда возвращаться. Советские корейцы – это отдельный этнос, который ни в Южной, ни в Северной Корее прижиться не сможет.
Однако вернемся на наш базар, тем более мы отправились на него в тот воскресный день не одни, а с казанскими гостями. Из Казани приехали навестить нас бабушка Рауза и тетя Сююмбике с двумя совершенно очаровательными девочками-погодками. Когда я увидел своих двоюродных сестренок в нарядных платьицах с большими белыми бантами, я тут же бесповоротно влюбился в них обеих.
Надо ли говорить, какой это был для меня праздник! Взрослые расщедрились и купили детям не только газированную воду с апельсиновым сиропом по 3 копейки, но и фруктовое мороженное по 8 копеек. Я с видом знатока расхаживал между торговыми рядами и перечислял увиденные плоды: айва, персик, гранаты, абрикос, алыча, хурма… В воздухе раздавались аппетитные запахи. В огромных 30-ведерных казанах томились плов и халаса – блюдо из вареного мяса и зерна, которое выдерживается на огне в течение суток (обычно халасу готовят на Науруз – зороастрийский Новый год). В тандырах – круглых глиняных печах – румянились лепешки и самса, тут же каталось тесто для мантов, дымились мангалы с шашлыком, кипела и бурлила в казанах нохат-шурпа – суп из крупного азиатского гороха. Мальчишки-чайханщики разносили зеленый чай, который с удовольствием, по-восточному скрестив ноги и лениво отгоняя мух, пили базарные завсегдатаи из маленьких пиал в большой и просторной чайхане, удобно расположенной в углу базара под тенью узловатых карагачей. Говорили, что там, в дальних комнатах чайханы особо богатых клиентов услаждают райские гурии. Трудно сказать, было ли это правдой, ну а то, что в 60-е годы в каждой чайхане почти открыто можно было покурить анашу – это факт. Наш хозяин – 80-летний Аслон-бобо – частенько вечерами баловался травкой: он долго разминал похожую на пластилин желтовато-коричневую массу, потом смешивал ее с табаком и с наслаждением затягивался, опустив ноги в прохладный арык. Вроде бы так он поддерживал свою мужскую силу.
Это лишь в последнее время за хранение и распространение анаши в Узбекистане ввели расстрельную статью, а тогда она считалась вроде национальной забавы – кстати, еще и потому (а не только из-за коранического запрета) восточные люди, в отличие от европейцев, так равнодушны к спиртному. Во всяком случае, в городах, не говоря уже о кишлаках, пьяных узбеков и таджиков на улицах не встретить.
Впрочем, мы снова отвлеклись. А между тем наш вояж по базару уже заканчивался: нагрузив свои сумки и авоськи большим арбузом, двумя продолговатыми дынями, гранатами, абрикосами, виноградом, парой новых сандалий и двумя сарафанами, мы стали собираться домой. Надо заметить, что цены на базаре в те годы были еще сказочно низки. Бесхитростные дехкане практически даром отдавали горожанам плоды своего труда: арбуз стоил 3 копейки килограмм, дыня – 4 копейки, гранаты – 12-15 копеек. Это уже потом, когда цивилизация дошла и до этих мест, и местные жители узнали, что фрукты оказывают благотворное влияние на здоровье анемичных россиян (выяснилось, что гранаты, например, обновляют кровь, а персики укрепляют сердечную мышцу), цены резко подскочили. Совсем плохо стало, когда базарную торговлю прибрали к своим алчным рукам наглые перекупщики, вытесняя с рынка наивных дехкан и отбирая у них львиную долю прибыли…
В новых сарафанах мои сестренки выглядели еще красивее. Они были похожи на кукол, и казались не живыми, а игрушечными. Чтобы развеять свои сомнения, я даже незаметно ущипнул одну из куколок, но та подняла такой визг, что я зарекся на будущее проводить с ними подобные эксперименты.
Большую часть года – лето в Узбекистане длится едва ли не 9 месяцев – я бегал босиком, но в детский сад нужно было приходить в обуви. Хотя я и не любил носить сандалии, но понимал, что это атрибут каждого культурного человека, и, считая себя таковым, как-то мирился и даже радовался, когда, как, например, сегодня, мне покупали обновку. Но каково же было мое разочарование, когда примерив сандалии, я обнаружил, что они мне велики и спадают при ходьбе. Обувку дали примерить старшей из сестренок – и надо же, ей они оказались впору! Почему-то это обстоятельство я воспринял, как личное оскорбление, мое мужское достоинство было ущемлено в высшей мере: как это, мне, крутому джигиту – велики, а ей, сопливой девчонке – как раз? Мир перевернулся вверх тормашками. Однако взрослые не придали сему факту никого значения. "За лето нога подрастет, к осени будешь носить", – мудро рассудила бабушка. Но решили по-другому: сандалии подарили той куколке, под чью ножку они подходили, что еще больше раздосадовало меня.
В моей душе затаились жгучая обида и отвратительная горечь. Мне хотелось рвать и метать, я жаждал отмщения! Кому я хотел мстить: судьбе, за то, что она сыграла со мной такую злую шутку? Бог весть. Мало того, что у меня оказались маленькие ноги (я не думал, что сандалии большие, ведь они подошли моей сестренке), так я еще и опозорился перед этими глупыми разряженными девчонками…
Всю ночь я не мог заснуть, переживая случившееся. Наконец, я нашел решение. Тихонько, чтобы никого не разбудить, я встал с постели, вытащил из нижнего ящика комода злополучные сандалии и осторожно, стараясь не скрипнуть дверью, вышел во двор. Нашарил на верстаке молоток и огромный ржавый гвоздь. Я и думать забыл о своих ночных страхах, в эту минуту я никого не боялся: пусть только попробует сунуться какое-нибудь чудище, вмиг проломлю башку молотком. Я перевернул сандалии и пробил на подошве несколько дырок: ни я, никто другой эту обувь больше никогда носить не будет! Таким был мой приговор. И только после его свершения, вновь тайно пробравшись в дом, я успокоился и, удобно устроившись на подушке, унесся в царство Морфея.
Убереги, Боже, от уязвленного мужского самолюбия. Если оскорбленный джигит начнет мстить, кара его будет неимоверно жестокой, зато и успокоение будет великим. Не зря такой известный сердцевед, как Сталин, говорил, что самое сладкое удовольствие, доступное сердцу мужчины, – это удачно исполненная месть. Неужели он говорил правду?
8
Следующий наш переезд – из Каттакургана в новый, строящийся в 100 километрах от Бухары, город Навои – почти полностью лишил меня контакта с настоящим Востоком.
В Кызылкумах нашли золото, уран и другое важное стратегическое сырье. Империя, остро нуждающаяся в наращивании ядерных мускулов, напрягла все силы и за рекордные сроки выстроила в песках три красавца-города – Навои, Зарафшан и Учкудук, призванные обслуживать горнодобывающую промышленность. Население этих городов сначала почти на 100 процентов состояло из приезжих россиян: русских, украинцев, татар… Уклад жизни, психология межличностных отношений, ментальность их была совершенно чужда и непонятна коренному населению. В сердце Востока обосновался советский оазис – один из главных форпостов империи. Законы империи распространялись, конечно, и на города и кишлаки, где жил преимущественно местный люд, но в них они, эти законы, каким-то причудливым образом преломлялись и приспосабливались под восточный образ жизни, не задевая ее самых основ. Например, если гаишник (которые, так же, как и большинство милиционеров, почему-то сплошь были узбеками), задерживал за нарушение правил водителя-россиянина, он, как это и положено по закону, пробивал дырку в талоне, и никакие уговоры тут не помогали. Но если же попадался местный шоферюга, отпускал его с миром, предварительно слупив взятку. Гаишник был уверен, что его соплеменник жаловаться никуда не пойдет: подкуп должностного лица – непременный атрибут восточного общества, и взятка – полуофициальный источник доходов местных чиновников. Каждый восточный человек знает об этом с детства и принимает такое положение вещей за должное. В те годы ходил анекдот, весьма, впрочем, похожий на правду. Один милиционер-узбек написал заявление с просьбой о том, чтобы в связи с трудным материальным положением его перевели на работу в ГАИ, хотя зарплата у гаишников была такой же, как и у обычных милиционеров, но возможность получать взятки – гораздо большей…
Появление чисто европейских, даже по самой архитектуре, городов создало принципиально новую ситуацию. Существовало как бы два мира: один, коренной, восточный с некоторыми поверхностными советскими признаками и другой российский, привнесенный извне и искусственно насажденный в местную почву. Эти миры двигались параллельно и почти не соприкасались друг с другом, разве только на базарах, где местные выступали чаще в роли продавцов, а пришлые поголовно были покупателями. А в новых кызылкумских городах жизнь, за исключением, быть может, только неимоверной жары (до распространения кондиционеров летом спали, укрывшись мокрой простыней), протекала вполне по российским канонам, как, скажем, где-нибудь в Тольятти или Набережных Челнах. Очень быстро новостройки обрастали зелеными насаждениями – жэки трудились вовсю, а когда в Навои вырыли искусственное озеро – вообще, не верилось, что такое может быть в центре Кызылкумов. Город, названный именем известного восточного поэта и выстроенный по проекту ленинградских архитекторов, в тогдашних газетах называли "Чудом пустыни". Приезжим из средней полосы России здешняя жизнь и вправду казалась сказкой: гостеприимные люди, большие заработки, отличное снабжение – в магазинах всегда лежало несколько сортов колбасы и даже шоколадное масло (империя заботилась о своих легионерах).
Школьная моя жизнь (в Навои я пошел в первый класс), хотя и протекала на Востоке, но была окружена не восточными реалиями, а, скорее, общесоветскими, как если бы мы жили в близких по укладу к Навои и Зарафшану новостройках Татарстана – Нижнекамске или Набережных Челнах, куда, кстати, родители безуспешно пытались перебраться.
9
После переезда в Навои я испытал острое чувство одиночества. Мы не сразу переехали в новый город, а сначала, около полугода, снимали в ожидании квартиры примерно такой же домик, как и в Каттакургане, у семьи участкового милиционера в старом квартале возле железнодорожного вокзала. Осенью я должен был пойти в школу, и меня не стали отдавать в детский сад. Целыми днями я был предоставлен самому себе. Утром, после того, как родители уходили на работу, оставляя на столе еду, в комнату вламывалась нахальная и вечно голодная хозяйка. Она, облизывая губы, смотрела на тарелки и спрашивала меня: "Почему не кушаешь, не хочешь?" В столь ранний час я, естественно, еще не успевал проголодаться и честно отвечал "Нет". Прожорливая хозяйка только этого и ждала: услышав ответ, она мгновенно набрасывалась на мою еду.
Но это меня мало беспокоило, меня волновало другое – у меня не было друга. Я просто чах от тоски и одиночества.
С соседскими пацанами сойтись уже как-то не получалось. Два года посещения советского садика сделали свое дело. Это в Каттакургане я мог запросто общаться с местной ребятней, говоря с ними почти на их родном языке. Теперь же я основательно подзабыл татарский – мать и особенно отец говорили со мной дома только по-русски. Если раньше я был двуязычным, то теперь стал одноязычным ребенком, к тому же ребенком, испорченным советской системой дошкольного воспитания – с узбекскими пацанами, которые не посещали детского сада и не знали многое из того, что знал я, водиться мне было уже как-то не с руки. Высокомерное превосходство над с трудом выговаривавшими русские слова туземцами – вот что прививалось в первую очередь в советских дошкольных учреждениях. Да и местные ребята не принимали меня больше за своего, за глаза называя "ок кулок" ("белое ухо") – обидное прозвище, которым местные, наподобие того, как индейцы называли европейцев "бледнолицыми", награждали россиян. А русских дразнили еще обиднее: "урус – жопа папирус".
Отец, слушая мои постоянные жалобы на отсутствие друзей, повез меня однажды в новый город к своим знакомым-заводчанам (он и мать устроились работать на одно из подразделений горно-металлургического комбината), у которых был сын примерно моего возраста. Здесь я впервые увидел и даже искупался в ванной, посмотрел, как зажигается газ и столкнулся с другими плодами цивилизации. За одну встречу подружиться мы не успели, а больше в гости меня не водили.
И вновь потянулись длиннющие тоскливые деньки. Тогда-то и случился со мной этот казус. Я смотрел, как соседские пацаны играют в ашички – бараньи кости, которые в России называют бабками. Меня в игру не принимали: я был еще мал, да и ашичек у меня не было. Ашички, альчики, или, как их более грубо называли у нас во дворе, мослы – главная забава всей местной и приезжей ребятни в Средней Азии. В мослы здесь в те годы резались буквально все школьники, начиная с первого класса и кончая старшеклассниками, хотя учителя это увлечение не приветствовали и всячески с ним боролись, считая ашички плебейской игрой. Только уж совсем больные или маменькины сынки с этим (не в открытую, конечно, а тайно в душе) соглашались. Но таких среди моих знакомых ребят я что-то не припомню. Умение точно попадать издалека в цель "сочкой" (более крупная и красивая ашичка, выбранная игроком для выбивания из кона других альчиков) – очень высоко ценилось в ребячьей среде. "В Табуна", "в Султана", "в Три Лаптя", "в Чики-Пуки" – можно насчитать с десяток разновидностей этой самой массовой в Средней Азии детской игры.
Но тогда я начинал познавать лишь ее азы, наблюдая со стороны за действиями старших ребят. Игра меня заворожила, и я безумно захотел стать владельцем хотя бы одной такой драгоценности – костяной ашички. Не знаю, какая сила сдернула меня с места, но я, воспользовавшись тем, что ребята увлеклись спорным игровым эпизодом, ринулся к кону и, захватив альчики в кулак, бросился наутек. За мной погнались, крича вдогонку "Вор, вор!"
История эта, впрочем, обошлась без последствий, если не брать в расчет внутренний моральный дискомфорт, который мне пришлось какое-то время переживать и сложившееся с тех пор стойкое представление даже о мелком воровстве, как о грехе и занятии, недостойным настоящего мужчины.
Казань, 1996 г.
Хафиз белән Вафа исән булса
Буквально вчера, перед Новым годом, ездили навестить Наилә-апай в село Усады, что в Высокогорском районе РТ. При встрече она показала мне новый сборник стихов своего земляка из деревни Бәрәзә Илгиз-ага Кадыйрова «Казан арты- Әтнә яклары».
В нем есть такие строчки:
Ниләр булды сиңа, газиз авылым,
Нигә түбән төште дәрәҗәң?
Елдагыча мескенләнеп калдың
Сабантуйсыз Олы Бәрәзәм.
Хафиз белэн Вафа исән булса
Калмаслармы икән хәйранга: -
Бала-чагаң, карт-корыңны ташлап
Читкә йөрисең бит Мәйдәнгә!
Вафа (урыны җәннәттә булсын) – это мой прадед, а Хафиз его соперник по татарской национальной борьбе көрәш. Как рассказала Наилә-апа, со слов Илгиз-ага, что якобы Вафа-бабай намеренно уступил первенство во время финального поединка, чтобы не дошло до смертоубийства. До того были накалены страсти!