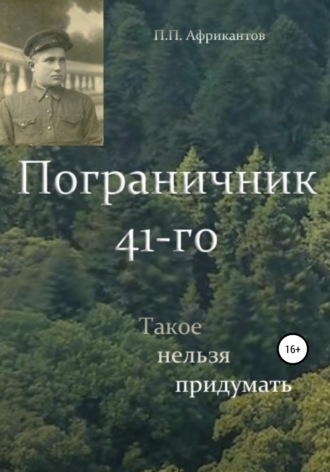
Пётр Петрович Африкантов
Пограничник 41-го
Перебираюсь через овраг, сажусь рядом с дядькой на телегу, тот отсыпает мне в кисет самосада, мы разговариваем.
Немного погодя слышу крики. Кричат с той стороны оврага. Оглядываюсь. Мои бойцы кричат и показывают на восток карабинами и автоматами. Я смотрю, куда показывают партизаны, и сердце у меня ёкает. От края поля, по левой и правой стороне оврага рысит отряд немецкой жандармерии.
Быстро соскакиваю с телеги, делаю отмашку отделению – «Уходите к лесу», а сам, пригибаясь и, петляя между кустами и деревьями, бегу тоже к лесу, но по своей стороне оврага. В овраг прыгать, чтобы соединиться с отделением бессмысленно, меня там сразу запрут и на аркане притащат в комендатуру.
Хорошо, что у меня всегда на груди ручной пулемёт. С ним я не расстаюсь никогда. Как я не беги, но егеря на лошадях меня всё равно догонят. И это происходит. Они начинают меня настигать. Не стреляют, видят, что я один и хотят взять живым. Это мне наруку. Подпускаю их ещё ближе, слышу, как тяжело дышат лошади. Поворачиваюсь и даю очередь. Этой очередью спешиваю ближайших всадников.
Жандармы, после очереди из пулемёта и гибели двух своих явно поостыли. Да, они меня преследуют, стреляют, но без особого энтузиазма, на рожон не лезут, пулемёт есть пулемёт. Я бросаю взгляд через овраг и вижу как мои бойцы, отстреливаясь, заходят в лес.
Так уж получилось, что в расположение своего отряда я прибыл первый и тут же доложил комиссару о случившемся. Комиссар же, вместо расспросов, расстёгивает кобуру и кладёт на стол перед собой маузер. Он смотрит на меня ледяным взглядом. Этот взгляд не предвещает ничего хорошего. Комиссар рычит:
– Где, вверенное тебе отделение подрывников, сукин сын!? Где ты его положил!? Почему ты не лежишь с ними рядом?! Почему не разделил участи своих бойцов, а топчешься передо мной, как мразь навозная!?
– Отделение должно подойти, – говорю я, не понимая в чём дело?
– Откуда подойти!? – продолжает рычать комиссар, – с того света?! Но раз ты утверждаешь, что подрывники живы, даю тебе двадцать минут. Если отделение не появится в расположении отряда через двадцать минут, я тебя расстреляю как труса. Ты угробил отделение и должен за это отвечать. Я тебя расстреляю, не смотря на твои прежние заслуги. Твоё время пошло.
Он снимает с руки часы и кладёт их передо мной. Я стою около его стола навытяжку и молю бога, чтобы ребята не опоздали, и не могу понять, где они задерживаются? Я же видел, как они оторвались от конной жандармерии и втягивались в лес.
Проходит пять, потом десять минут – стрелки на часах двигаются, а отделения нет и нет. Вот уже прошло пятнадцать минут. В голову лезут мысли: «Интересно, где он будет меня расстреливать, не в землянке же? Наверное, выведет меня на улицу, отведёт к дереву. На всё это уйдёт не меньше трёх, четырёх минут; затем скажет короткую речь. Набирается не меньше пяти минут. Так это уже не двадцать, а двадцать пять минут. Может быть, ребята успеют подойти за эти двадцать пять минут? Хоть бы успели…
Рассуждения мои прерывает громкий крик снаружи: «Подрывники пришли!». Комиссар тут же вызвал к себе Грача и, узнав от него подробности, положил маузер в кобуру и говорит: «А мог бы и застрелить. Повезло тебе, пограничник. Иди, радуйся жизни, а за подорванный состав всех благодарю».
Только позже я узнал, что в отряд пришёл человек из деревни и сказал про гибель моего отделения. Ему об этом шурин сказал, что на станции служит, а тому егеря.
Возможно, такой бы реакции со стороны комиссара и не было бы, но перед этим ещё одна группа партизан погибла, вот он и вскипел, увидев меня одного.
Везение двадцатое
Много путей дорог пришлось мне прошагать со своими товарищами. Научился говорить на польском, украинском и белорусском языках. И говорил так, что украинцы принимали меня за украинца, поляки за поляка, а белорусы за белоруса. Это помогало. В деревнях крестьяне охотнее разговаривали с незнакомым человеком, если он говорил, так же как и они и принимали его за своего.
Немало в отделении было потерь в стычках с украинскими националистами и бандеровцами. С ними воевать было труднее всего. Это не то, что немцы, логику и характер которых мы изучили. Эти такие же, как и мы, русские, только с мозгами набекрень. Вот и повоюй с таким противником. От них погиб Лёнька-сорвиголова, они расшифровали, разведчика Володьку и прибили его гвоздями к дереву. Один раз в их расположение, а точнее в траншеи, попал и я со своими ребятами. Думая, что это бойцы соседнего отряда, мы заняли позиции рядом с бандеровцами.
Была ночь, туман, слякоть. По одежде не определить, бандеровцы, как и партизаны одеты кто во что. И только выработанная осторожность не болтать лишнего и знание мной языка западенцев сделали своё дело. Прислушавшись к разговору бандеровцев, я смекнул, кто они такие, и вывел своё отделение из их расположения. Это тоже было большим везением. Ведь достаточно было кому то из отделения заговорить на русском языке, наш вопрос был бы решён мгновенно.
Везение двадцать первое
– История эта восходит к моему довоенному прошлому. Дело в том, что я вхожу в родовое древо игрушечников-глинолепов. Отец мой и дед были искусными игрушечниками, то есть, могли прекрасно лепить саратовскую глиняную игрушку. Умение лепить из глины пригодилось мне в партизанском отряде, и ещё как пригодилось.
В партизанском отряде были ведь не только бойцы-партизаны, но и жители сожжённых немцами деревень, а так же дети-сиротки. Война есть война. Она никого не жалеет ни взрослых, ни детей. Этим сироткам я и лепил игрушки.
После гибели близких, ребятишек надо было выводить из стрессового состояния, а кто это может сделать, как не народная игрушка! Она душу лечит, так ей Создателем заповедано. Вот и лепил я, после выполнения боевых операций, деткам игрушки и их к этому делу приобщал. Нельзя детским душам долгое время находится в угнетённом состоянии, – они от этого стареют.
Пригодилось пограничнику лепное дарование и во вполне боевом плане. Дело в том, что игрушки лепятся как со свистковыми устройствами, так и без них. А уж по лепке свистков он был первый в роду игрушечников. Мог их делать и на два, три и более игральных отверстий, и все в виде разных птиц и зверей.
Музыканты диву давались, как он – простой мужик из деревни, без какого либо музыкального образования, умеет так тонко различать звуки, чего они, с натренированным музыкальным слухом, сделать быстро не могут. Деревенские же мужики смеялись говоря: «Вот, когда у вас будут такие же, как у него лопушистые в оттопырку уши, тогда и будете с ним тягаться. Он даже незначительный сбой в работе двигателя трактора или комбайна за версту определяет». И это была правда, трактористы не лукавили.
Было правдой и то, что он, находясь в партизанском секрете, по свисту без труда определял, какое боевое подразделение выходит к искомому месту встречи и кто свистит. В этих свистах и лежала вся закавыка. Партизаны этими свистами знак подавали «кто идёт». Только нужды в таких моих способностях пока не было. Одни приходили – свистели кто как мог, другие отвечали точно так же, пока, идя на ответный свист, партизаны не стали попадать в немецкие засады.
Немцы быстро сообразили, что при помощи ложного свиста можно уничтожать не только партизанские секреты, но и целые подразделения. Над партизанами нависла угроза их истребления по частям. Стали думать – как быть? Тут Пётр Андрянович и предложил партизанский свист унифицировать, то есть, сделать так, чтобы партизаны свистели не так кто как может, а использовали свисток с определённым звучанием и сам же вызвался таких свистков из глины наделать. Так появились у партизан свистки с высотой звучания «Ми» второй октавы. А так как, кроме пограничника эту высоту из партизан определить на слух никто не мог, то было решено временно в секрет ставить его с товарищами.
– Разумеется, немцы со своими разношёрстными свистами были разоблачены, – говорит Пётр Андриянович. – Напоролись они раз другой на партизанские засады, понесли потери и на время оставили эту затею. Казалось, дело было сделано, я снова отправился взрывать железнодорожные пути, а партизанский отряд зажил прежней жизнью. Свистки же в отряде прижились, партизаны к их звучанию привыкли, немного освоились и стали применять в деле.
Немцы, поняв, что с опознавательными свистами что-то не так, дело это не оставили, а подключили к этому делу профессионального музыканта, оказавшегося в их части. В своё время этот немец был мастером-настройщиком музыкальных инструментов и мог делать отличные свистковые устройства. Послушал однажды этот мастер партизанский свист и сделал свисток из дерева с точно такой же высотой звучания. В результате партизаны снова стали нести потери. По свисту они думали, что идут свои, а это оказывались немецкие егеря.
Я снова был отозван из своего подразделения и направлен в секрет с хорошим боевым охранением. Немецких егерей мы ждали в полной боевой готовности.
Вот уже трое суток лежим в засаде и ждём прихода неприятеля. Наконец раздаётся долгожданный протяжный свист с опушки леса. Это условный сигнал. Вскоре он должен прозвучать снова.
Я насторожился, подал знак, чтобы все замерли. Здесь не должно быть ошибки. Моя ошибка – это смерть тех, кто идёт к нам, или смерть всего нашего секрета.
Напрягаюсь – кто это, свои или чужие?? Высота звучания та же, это как пить дать. Выходит, что свои. Но высоту можно и подстроить… Вижу, как вопрошающе смотрят на меня товарищи. Что-то в этом свисте есть очень подозрительное. Но что? Это что может быть разным. На чистоту звучания могут влиять кустарники, овражки, колыхание крон деревьев и так далее. Лес, это не замкнутое пространство, здесь настройщиков много. Любое дупло может внести в свист свой привкус. Сейчас же необходимо дождаться повторного свиста и по нему уже более точно определить его принадлежность. Главное, чтоб в это время не протрещала какая-нибудь сорока или иной житель леса не завёл свою песню. Всё это может помешать. Слух настроен, нервы на пределе. И вот он повторный свист.
Что это? «Ми» второй октавы – тут без вариантов, а вот обертона нет. Звук чистый, спокойный. Нет, он такие свистки не делает. Обертоны создают красоту звучания, неповторимость, а здесь?.. Думаю: «Звук похож на шеренгу выстроенных солдат одного роста и комплекции. Слишком чисто. Очень чисто сработал фашист. Немецкая точность и аккуратность сразу видна. Она его и выдала. Нет, не дотянул фриц. А может быть и дотянул бы, если б захотел, да только понимания не хватило или сработало пренебрежительное отношение к противнику, дескать, куда этим лаптёжникам из леса до обертонов. Срезался ты фриц на обертонах. Ой, как срезался» – и с этими мыслями делаю отмашку товарищам – огонь!
Как потом вспоминал пограничник, сделать эту отмашку было самым сложным. Вот тогда, когда он лежал в зарослях бересклета и вслушивался в шорохи леса у него было одно желание – разоблачить и уничтожить врага. Потом же, после операции, пришло понимание возможности ошибки. «Если б мы вдруг тогда поубивали своих, а не немцев, то я бы домой не пришёл, – говорит пограничник. – Такие оплошности не прощаются, – а затем весело добавляет. – Мы всё таки этих «гансов» вычислили. Ни один не ушёл. Жаль, что среди них не оказалось того, кто свисток смастерил. Мы об этом узнали позже от, захваченного в плен полицая. Он нам про этот свисток и рассказал».
Везение двадцать второе
Это везение отличается от остальных тем, что я и ещё двое моих товарищей были взяты немцами в плен во время выполнения задания, как говорится – с поличным. Нас будто ждали около этой водонапорной башни, которую мы должны были взорвать. Никто из нас не успел сделать ни одного выстрела. Немцы навалились разом, скрутили и повели. Это был явный конец. Мы знали, как поступают фашисты с попавшими в плен партизанами: вначале допросы с избиениями, а затем виселица. Не любили они партизан. Ох!.. не любили.
Задание, которое поручил мне командир отряда, было плёвое. Подумаешь, приказал взорвать водонапорную башню. Это не мост в реку завалить с железнодорожным составом. Это дело мы сделаем на раз-два. Только на раз-два у нас не получилось.
Помню: Ночь. Темень непроглядная. На спине одного из партизан взрывчатка топорщится. Немецкие часовые по освещённому перрону ходят. Доходят почти до самой водонапорки, а потом назад топ да топ. Пока они назад идут можно не только мину заложить, но даже вздремнуть. Наверняка, это нас и расслабило, бдительность поубавилась. Считали себя спецами, потому и прокололись.
А немцы, нас ждали. Ой!.. как ждали. Нам же было невдомёк, что это только кажущаяся простота подхода к объекту. На этой простоте и споткнулись. По-глупому как-то всё вышло. Даже опомниться не успели, а жандармерия тут как тут. Как будто из под земли выросла.
Не знали мы тогда, и командир наш не знал, что для охраны станции и железнодорожных путей к немцам прибыл капитан – специалист по всяким хитростям. Вот он и наставил около станции секреты. К секретам этим провода протянул. Фриц из секрета и не выходит, если партизан заметит, он только на кнопочку нажмёт и все дела. В это время на столе у жандармского дежурного лампочка загорается и звонок нужное количество раз звенит. По количеству звонков определяется номер секрета, к которому скрытно и направляется жандармское подразделение.
Об этой лампочке и секретах рассказал, смеясь мне в лицо, этот капитан. Хочется ведь перед врагом похвастать своей изобретательностью, особенно когда этому врагу осталось жить всего ничего. Капитан этот был не садист, то есть, сам не бил и при себе бить не позволял. Ему это претило. А вот когда он выходил, то Дирк, его подручный, сразу давал волю кулакам. Нет, он не добивался признаний. Признаваться было не в чем и так всё налицо. Побоями он хотел склонить кого-то из нашей троицы на сотрудничество.
Держат нас уже три дня в общей камере. Всего арестованных в ней человек 30-40. Надежд на спасение никаких. Понимаем: пуля или верёвка нам обеспечены. С партизанами не церемонятся. Лежим и просто ждём своего часа. И вот однажды немцы и полицаи быстро забегали по коридору, стали открывать камеры и выгонять арестованных на улицу. Среди арестованных быстро распространился слух о том, что нас погонят на расчистку улиц Минска. Приехал какой-то генерал и выразил неудовольствие по поводу завалов на дорогах в городе. Вот немцы всех под гребёнку и погнали на расчистку, чтобы генералу угодить.
Какую тут роль играл капитан можно только догадываться. По всей видимости, его мнение никто и не спрашивал, вот нас – партизан и выгнали на расчистку. Прежде чем вывести колонну за ворота арестантов несколько раз пересчитали. Видно что-то там не сходилось.
Охраняли пленных немцы хорошо, мышь не проскочит. Улица, на которой велись очистные работы, представляла собой страшное зрелище. Дело-то было после покушения на гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе.
И сейчас в глазах стоит – на всех столбах раскачиваются повешенные. А под повешенными мы нагружаем тачки с битым кирпичом. В душе стоит ужас, аж волосы на голове шевелятся. Немцы ударами прикладов подгоняют пленных. Того, кто не может быстро двигаться, полицаи подхватывают под руки и, не взирая на крики страдальца, тут же его вешают на ближайшем суку. Это действует, пленные начинают двигаться чуть быстрее, но не на долго. Через какое-то время такая же процедура по ускорению производственного процесса повторяется, но уже в другом месте улицы. Полицаи зверствуют.
– Если мы не уйдём на волю отсюда, то из камер у нас прямая дорога на виселицу, – говорю я товарищам.
– Как же мы, командир, уйдём, – говорит Виктор – дюжий малый, огромной силы. Это он нёс в мешке за спиной тротиловые шашки для подрыва водонапорной башни.
– Как-как? Думать надо. Другого случая попытаться сбежать не будет, – поддержал меня Павел.
– Давайте наблюдать. Может быть, чего и усмотрим для нас подходящее, – говорю я.
Мы притихли, копаем, по сторонам глазами зыркаем. И вдруг под лопатой у Виктора что-то звякнуло. Не привлекая ничьего внимания, он потихоньку отгрёб битые кирпичи и увидел чугунную крышку канализационного люка. Глазами указал на крышку мне. Я кивнул и, приблизившись, шепчу:
– От полицаев надо люк скрыть. Другие тоже люки находят, так там сразу по близости охранника ставят.
– Понял?
Виктор чуть тряхнул чубатой головой.
Найти канализационный люк во время расчистки – была наша мечта. Другим люки попадаются, а нам никак. Но, эти, другие, ими и не пытаются воспользоваться для побега. Нам наконец-то повезло. выдергиваю из вороха мусора двухметровую палку и бросаю её к люку, – пригодится. Павел вытаскивает из завала кусок фанеры и бросает его на люк. Незаметно для немцев сдвигаем крышку люка в сторону, забрасываем её хламом, а отверстие прикрываем фанерным листом. Дальше мы начинаем показывать немцам рвение в работе, а сами ждём подходящего момента.
Через несколько минут близстоящий охранник стал прикладом толкать в спину одного из арестантов и ругаться. Арестант оступается и падает. Охранник бьёт его прикладом. Этой заминкой мы и воспользовались. Мы один за другим юркаем под фанеру. Виктор спускается последним и задвигает крышку на место. Чугунная крышка встаёт в паз почти бесшумно. Спускаемся на дно канализационного колодца по ржавым металлическим скобам, вмонтированным в стену. Внизу натыкаемся на трубы с вентилями. Через неплотности в крышке в колодец проникает немного света и можно ориентироваться.
После беглого осмотра колодца, мы понимаем, что из него нет выхода – нет водостока достаточного диаметра, чтобы можно было по нему уйти. Мы промахнулись. В этом колодце находится технологическая развязка труб и не более того. Присмотревшись, замечаем в стене, куда уходят трубы, пространство. Влезаем в него и на ощупь движемся вперёд. Метра через четыре останавливаемся, тупик. На трубе стоит вентиль. Догадываемся – это проход к вентилю. Около вентиля чуть свободнее. В сторону отходит, с полметра глубиной, ниша с перекрытием. Видно для удобства при ремонте. Всё, дальше хода нет. Наша мечта – уйти по канализационному коллектору рухнула. Мы в западне. Что делать дальше – не знаем.
Мы сидим на трубах и понимаем, что у нас выход только один – дождаться ночи, поднять крышку люка и уйти из города. Но, дадут ли нам немцы и полицаи это сделать? Вдруг хватятся и проверят колодец? А хватятся они обязательно. Начнут после работы пересчитывать людей и обнаружат недостачу.
Мы вслушиваемся в лязганье лопат, удары глыб и кирпичей на верху. Наконец раздаются команды на построение. Сейчас начнётся пересчёт арестантов. Слышно как переругиваются полицаи, бегая из конца в конец колонны. Рядом с их канализационным колодцем разговаривают двое, видно полицаи. Один по голосу молодой, а другой постарше – сипатый.
Молодой: А бис их знае, куды подивались!?
Сипатый: Троих повесили, одного пристрелили…
Молодой: Этих тоже скажем, что пристрелили…
Сипатый: Тебя немцы за враньё сразу и повесят.
Молодой: А где мы их возьмём?
Сипатый: Колодцы надо проверить.
Молодой: Давай смотреть колодцы… Поддевай крышку на том, что рядом.
Сверху заскрежетало, раздаётся удар по крышке, мы мгновенно прячемся в нише. Ещё удар – откидывается крышка люка. Колодец освещается вялым сумеречным светом. Затем слышится чертыхание и пыхтение – в колодец кто-то спускается. По стенам пляшет жёлтое пятно света, это фонарик. Мы втискиваемся в нишу и перестаём дышать. Пятно прыгает по стенам, потолку, трубам и гаснет. Затем раздаётся ворчливый голос молодого: «Нет тут ничего… тупик… нигде не спрячешься». И следом голос Сипатого: «Вылезай, Микола,– значит в другую дыру нырнули». После недолгого чертыхания и сопения люк захлопывается. Полицаи уходят. Мы облегчённо вздыхаем. Находились на волоске от страшного, но волосок надежды выдержал, и наши души не взлетели к небу.
Только радоваться было рановато. Дождавшись ночи, мы решили выйти из нашего убежища, но не тут-то было – крышка люка не поднималась. Видно на неё что-то навалили или поставили. Положение складывалось критическое. Кричать и бить в крышку люка не будешь. Разумеется, нас вытащат, но тут же и повесят. Значит надо сидеть до тех пор, пока сверху не освободят люк. А когда его освободят?
– Сами виноваты, – говорит Павел, – столько в завалах валялось всяких железяк от лестничных пролётов, фрагментов от кованых перил, изгородей. Чем не ломики. Сбросить бы в колодец пару, тройку, что покрепче и глядишь – жизнь бы была веселее. Эх, мы – торопыги.
– Что говорить об упущенных возможностях… Сколько раз не скажи слово «лом», он в руках не появится. Не надо об этом… – тихо молвил Виктор. – Вон, командир, палку хорошую к люку бросил, а сюда она не попала.
– Я думал, что здесь воды будет по пояс, чтоб палкой дно проверять… А тут сухо, как у бабки на печке,– отреагировал я на реплику и добавил. – Будем ждать. Немцы народ аккуратный. Они не допустят, чтоб на улице даже одна мусорная куча осталась. Их аккуратность – наша сейчас надежда. Дня три подождём, а там уж начнём рыпаться, пока сила есть.
«И то верно…» – согласились со мной товарищи.
Мы сидим в темноте на трубах и ждём. Кап – кап –кап – падают капли из под вентиля. Вода питьевая. Подставляем поочередно ладони и пьём. По шуму работ наверху определяем дни сидения в колодце. В голове вертятся неутешительные мысли: «А вдруг они эту кучу мусора за три дня не уберут? Каковы наши действия?». Можно, в крайнем случае, завернуть вентиль. Тогда стопроцентно будут проверять колодцы. Особенно если мы прервём подачу воды в немецкое учреждение. Только, кто придёт проверять колодец? Это большой вопрос. Хорошо если придёт проверять старичок-сантехник. С ним можно договориться и он не выдаст. А если с ним спустится полицай? А наверху останется ещё один. Или подойдут с собакой. Та нас сразу почует. Немцы ведь не дураки.
Прошло два дня. Ночью мы опять пробуем поднять крышку люка. Она начинает двигаться, но только в одну сторону, и то чуть-чуть. Самый сильный у нас, Виктор. Он уже несколько раз поднимался по скобам к люку, но результаты совсем небольшие. Хорошо, что скобы крепкие, не гнутся. Только та, на которой стоит Виктор, стала сгибаться. Под неё мы кирпич подложили.
Мы с Павлом думаем, как помочь Виктору. Один человек, хотя и очень сильный, крышку не сдвинет. Решили попробовать встать на плечи друг другу. Получилось, только нашей пирамиды не хватает – до люка дотягиваемся, а вот, чтоб упереться, то никак. Разбираем в месте, где ниша, кирпичную кладку, там стенка не выложена до конца и сооружаем себе подставку. Павлик, как самый тонкий и маловесный, встаёт мне на плечи и помогает толкать чугуняку. Тяжело, очень тяжело, но надо держаться. Невероятными усилиями мы сдвигаем крышку вбок, но только наполовину. Радости нет конца и края.
Но вылезти трудно. Ощупью определяем – на люк навалился конец толстого бревна. Его не подвинуть, ни поднять. Это он держал и держит крышку люка. Общими усилиями протискиваем наружу Павла. Он у нас самый тщедушный. Павел упёрся в бревно ногами и немного его подвинул. Затем подсунул под него что-то и чуть-чуть приподнял. Этого достаточно, чтобы мы вылезли из нашей тюрьмы-спасительницы.
Мы уходим из ночного Минска. Над нами раскачиваются на ветру тела повешенных. Мы живы, мы идём сражаться.
На Параде Победы
После соединения моего партизанского отряда имени Дзержинского с частями Красной армии, отряд был расформирован, а мы влились в другие подразделения. Из нас, кто-то сразу был направлен на фронт, кто пробыл в отряде менее года, теми занималось НКВД. А вот трактористов и шоферов сразу выделили в отдельную группу. И это было неслучайно. В это время в тылу формировались две полностью механизированные противотанковые бригады, и водители были нужны позарез. Для этих целей открыли школу подготовки и переподготовки шоферов и всю эту разношерстную массу партизан и непартизан стали учить шофёрскому делу.
После окончания курсов мне дали новенький студебеккер, которого водители называли «Стударь». Я на этом студебеккере стал обслуживать формирующуюся бригаду. В дальние поездки командиры всегда направляли меня. «Этот водитель от бога, – говорили они, – как получил машину – ни одной царапины. Когда бы не приехал с рейса, из гаража не уйдёт, пока машину не отчистит и не отмоет. Все бы были такие, а то, то согнут, то помнут, то прольют».
Соседняя бригада была сформирована быстрее и её отправили на фронт раньше. А перед тем, как отправлять нашу бригаду, первую уже привезли с фронта по железной дороге вдребезги разбитую.
После того, как наша бригада была сформирована, её отправили на фронт своим ходом. Как сейчас помню – наши студебеккеры с пушками на прицепе, не останавливаясь двигаются день и ночь. И вдруг, днём, в одном большом селении нам навстречу высыпает толпа людей. Это жители посёлка. Мы останавливаемся. Что такое? – на людей не поедешь. Нас и наши грузовики с пушками они начинают осыпать цветами. От жителей мы и узнали, что война закончилась.
В этот же день нашу, с иголочки сформированную бригаду, с новейшей техникой, развернули и направили своим ходом в Москву. Прибыв в столицу, мы узнали, что наша противотанковая бригада будет участвовать в параде Победы на Красной площади.







