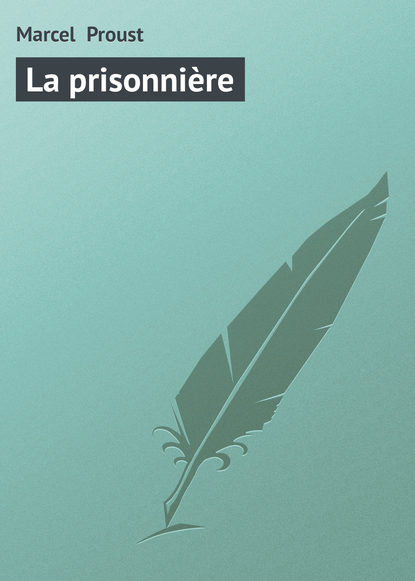Полная версия:
Марсель Пруст Беглянка
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Марсель Пруст
Беглянка
«Мадмуазель Альбертина уехала!» Насколько страдание психологически сильнее, чем сама психология! Только что, осмысливая свое душевное состояние, я думал, что разлука без последнего свидания – это как раз то, о чем я мечтаю, я сопоставлял небольшие удовольствия, какие доставляла мне Альбертина, с богатой палитрой влечений, которым она препятствовала, и сознание, что она живет у меня, мое угнетенное состояние дало им возможность выдвинуться в моей душе на первый план, но при первом же известии об ее отъезде они не выдержали соперничества – мгновенно улетучились, я переломился, я пришел к выводу, что не хочу больше ее видеть, что я ее разлюбил. Но слова: «Мадмуазель Альбертина уехала» причинили мне жгучую боль, я чувствовал, что мне с ней не справиться, я должен был прекратить ее; испытывая такую же нежность к самому себе, какую испытывала моя мать к умирающей бабушке, я шептал себе слова утешения, какими успокаивают любимое существо: «Потерпи минутку – мы найдем тебе лекарство; не волнуйся – мы тебе поможем». Я смутно догадывался, что если прежде я относился к отъезду Альбертины безразлично, что он был мне далее приятен, то лишь потому, что я в него не верил; когда же это произошло, инстинкт самосохранения стал искать простейшего болеутоляющего средства для моей открытой раны: «Это все пустяки, я мигом ее верну. Я все взвешу, но в любом случае вечером она будет здесь. Значит, и волноваться нечего». «Все это пустяки», – так я сказал не только себе, но и постарался, скрывая свои мучения, убедить в этом Франсуазу: даже когда я любил Альбертину безумной любовью, я все-таки заботился о том, чтобы моя любовь казалась другим счастливой, взаимной, особенно – Франсуазе, не жаловавшей Альбертину и сомневавшейся в ее искренности.
Да, незадолго до прихода Франсуазы я был уверен, что разлюбил Альбертину, я был уверен, что ничего не упустил из виду, я полагал, что изучил себя, как говорится, до тонкости. Но наш рассудок, каким бы ясным он ни был, не замечает частиц, из которых он состоит и о которых он даже не подозревает до тех пор, пока что-то их не разобщит и летучее состояние, в коем они, главным образом, пребывают, нечувствительно сменится застыванием. Я ошибочно полагал, что вижу себя насквозь. Однако внезапный приступ боли снабдил меня неумолимым, неопровержимым, необычным, как кристаллическая соль, знанием, которого мне не дал бы и самый тонкий ум. Я так привык к тому, что Альбертина тут, рядом, и вот, неожиданно – новая грань Привычного. До сих пор я видел в Альбертине разрушительную силу, подавляющую мою личность, подавляющую мое восприятие действительности; теперь же я видел в ней прочно прикованное ко мне странное божество с невыразительным лицом, до такой степени отчетливо отпечатавшимся в моем сердце, что, если это божество от меня отделится, если это божество, которое я едва различаю, от меня отвернется, то это причинит мне невыносимую муку, а значит, оно жестоко, как смерть.
Мне хотелось как можно скорей ее вернуть, и я тут же начал читать ее письмо. Мне казалось, что это в моей власти: ведь будущее существует лишь в намерениях человека, и нам представляется, что их можно изменить in extremis[1] нашей воли. Но я не забывал и о влиянии других сил, с которыми, даже если бы в моем распоряжении было больше времени, я не мог бы ничего поделать. Что в том, что час еще не пробил, если мы бессильны что-либо изменить в грядущем? Когда Альбертина жила у меня, я решил сам пойти на разрыв с ней. И вот она уехала. Я распечатал конверт. Привожу ее письмо:
Друг мой! Простите, что я не осмелилась сказать Вам те несколько слов, которые Вы сейчас прочтете, но я такая трусиха, я всегда так перед Вами робела, что, как я себя ни заставляла, у меня все-таки не хватало решимости. Мне надо было бы сказать Вам вот что: наша совместная жизнь стала невозможной (кстати, на днях Ваша выходка показала, что в наших отношениях что-то изменилось). Что удалось нынче ночью уладить, то спустя несколько дней могло бы стать непоправимым. А потому, раз уж нам удалось помириться, давайте расстанемся добрыми друзьями; вот для чего, милый мой, я и пишу Вам эту записку: я прошу Вас не поминать меня лихом и простить меня, если я Вас огорчаю; поверьте: мне безумно жаль прошлого. Любимый мой! Я не хочу быть Вам в тягость, мне будет больно ощущать Ваше быстрое охлаждение: приняв окончательное решение, я, прежде чем передать Вам письмо, велю Франсуазе уложить мои вещи. Прощайте! Все лучшее, что есть во мне, я оставляю Вам.
Альбертина.«Все это одни слова, – подумал я, – это даже лучше, чем я себе представлял, не обдумав хорошенько своего шага, она, очевидно, написала письмо с единственной целью – нанести мне сокрушительный удар, чтобы напугать меня. Надо как можно скорее найти способ вернуть Альбертину сегодня же. Противно, что Бонтаны так корыстолюбивы: пользуются племянницей, чтобы вымогать у меня деньги. Э, да не все ли равно! Если я ради того, чтобы немедленно вернуть Альбертину, отдам г-же Бонтан половину своего состояния, мы с Альбертиной все-таки проживем безбедно». Одновременно я соображал, успею ли я утром заказать яхту и роллс-ройс, о которых она мечтала; я ни секунды не колебался, мне в голову не приходила мысль, что дарить их ей безрассудно. Даже если согласия г-жи Бонтан окажется недостаточно, если Альбертина не пожелает подчиниться тетушке и поставит условием своего возвращения полную свободу – что ж, каких бы страданий это мне ни стоило, я предоставлю ей свободу: она будет уходить одна, когда захочет; надо уметь идти на жертвы, как бы ни были они мучительны, ради того, что вам всего дороже, самое же для меня дорогое, в чем бы я себя утром ни уверял, приводя неопровержимые и вместе с тем бессмысленные доводы, это чтобы Альбертина жила здесь. Надо ли говорить, какая мука была для меня – предоставлять ей свободу? Если бы я стал это отрицать, я бы лгал. Мне уже не раз пришлось испытать, что боль при мысли, что я предоставляю ей свободу изменять мне, была, пожалуй, не так сильна, как уныние, охватывавшее меня от сознания, что ей со мной скучно. Понятно, разрешить ей куда-нибудь съездить, если б она стала отпрашиваться и если б я знал наверное, что там будет оргия, – мысль об этом была бы для меня невыносимой. Другое дело – сказать ей: «Садитесь на пароход или в поезд, поезжайте на месяц в неведомую мне страну, только чтобы я ничего не знал, что вы будете там делать», – и мне часто приятно было думать, что вдали она отдала бы предпочтение жизни у меня и была бы счастлива по возвращении. Впрочем, она сама стремилась к тому же; она не требовала свободы, ограничений которой к тому же я сумел бы постепенно добиться, ежедневно предлагая ей все новые и новые развлечения. Альбертине хотелось только, чтобы я перестал ей надоедать, а главное, – как когда-то требовала от Свана Одетта, – чтобы я на ней женился. Выйдя замуж, она будет дорожить своей независимостью, мы останемся здесь вдвоем, мы будем так счастливы! Разумеется, это значило отказаться от Венеции. А насколько самые желанные города и в еще большей степени, чем Венеция, – герцогиня Германтская, театр, покажутся бесцветными, безразличными, мертвыми, когда мы соединены с другим сердцем узами столь болезненными, что они никуда нас не отпускают! К тому же Альбертина в своем стремлении к браку была совершенно права. Даже моей маме все эти промедления казались смехотворными. Жениться – вот на что мне давно следовало пойти, вот на что мне было необходимо решиться; именно моя нерешительность заставила Альбертину написать письмо, хотя она сама ни одному слову из этого письма не верила. Чтобы добиться брака, она на несколько часов отказалась от исполнения и своего и моего желания: вернуться. Да, она хотела вернуться, для этого-то она и убежала, – говорил мне мой снисходительный разум, но когда я себя в этом убеждал, разум возвращался к иному предположению. Этому второму предположению не хватило смелости недвусмысленно сформулировать мысль, что Альбертина способна на связь с мадмуазель Вентейль и ее подругой. И все же, когда это ужасное предположение застало меня врасплох при входе в энкарвильский вокзал, подтвердилось именно оно. Я не мог себе представить, чтобы Альбертина сама решилась покинуть меня без предупреждения и не предоставив мне возможности удержать ее. И все-таки (после того, как жизнь только что заставила меня сделать новый огромный прыжок) реальность требовала признания, но она, эта реальность, была для меня так же непривычна, как та, перед лицом которой мы оказываемся в результате открытия физика, дознания судебного следователя, находок историка, исследующих преступление или же революцию, и, разумеется, эта реальность брала верх над моим худосочным вторым предположением и вместе с тем подтверждала его. Второе предположение особым остроумием не отличалось, и панический страх, который охватил меня в тот вечер, когда Альбертина не поцеловала меня перед сном, и в ту ночь, когда я услышал стук оконной рамы, – этот страх был беспричинным. Однако на верность второго предположения указывало множество случаев, а дальнейшее явилось еще более мощным доказательством того, что разум – инструмент не самый тонкий, не самый сильный, не самый подходящий для постижения истины, из коей следует лишь вот что: начинать надо именно с разума, а не с интуиции, с подсознательного, а не с твердой веры в предчувствия. Именно жизнь мало-помалу, от случая к случаю убеждает нас, что самое важное для нашего сердца или ума мы постигаем не разумом, а при помощи других сил. И тогда разум, сознавая их превосходство, по зрелом размышлении, переходит на их сторону и соглашается стать их союзником, их слугой. Опыт веры. Непредвиденное несчастье, с которым я вступал в единоборство, тоже казалось мне (как и дружба Альбертины с двумя лесбиянками) уже знакомым, угаданным в стольких приметах, в которых (несмотря на противоположные доказательства моего разума, основанные на уверениях самой Альбертины) я различал утомление, страх, который владел ею, когда она жила со мной, как рабыня. Мне уже столько раз мерещилось, будто я читаю эти приметы, написанные незримыми чернилами, в грустных и покорных ее глазах, во внезапно вспыхивавшем румянце у нее на щеках, непонятно от чего алевших, в стуке оконной рамы, которая вдруг распахнулась! У меня не хватило духу проникнуть в их смысл и как можно скорее объяснить себе причину ее внезапного отъезда. Успокоив себя тем, что Альбертина здесь, я остановился на мысли, что отъезд подготовлен мной, а день еще не назначен, то есть существует как бы в несуществующем времени; у меня создалось неверное представление об отъезде Альбертины, как у людей, воображающих, будто они не боятся смерти, когда они думают о смерти, будучи здоровыми, и, в сущности, вводящих тяжелую мысль в доброе здоровье, ухудшающееся по мере приближения смерти. Мысль о добровольном отъезде Альбертины могла бы уже тысячу раз вырисоваться перед моим умственным взором ясно и отчетливо, но вот чего я уж никак не мог себе представить: как ее отъезд отразится на мне, что я восприму его как необыкновенное, страшное, непознаваемое, совершенно новое зло. Если б я предвидел ее отъезд, я был бы способен думать о нем беспрестанно в течение нескольких лет, и при сопоставлении оказалось бы, что мои мысли не имеют между собой ничего общего не только по силе, но и по сходству с тем невообразимым адом, краешек двери которого приотворила Франсуаза, возвестив: «Мадмуазель Альбертина уехала». Чтобы представить себе незнакомую ситуацию, воображение пользуется знакомыми элементами и именно потому не представляет ее себе. Но на чувственные ощущения, даже в физическом смысле этого понятия, ложится подлинный и долго неизглаживающийся, подобно впечатлению от молнийного зигзага, отпечаток нового впечатления. И я все не решался сказать себе, что, если б я предвидел отъезд Альбертины, я, вероятно, был бы не способен представить себе весь его ужас и предотвратить его; даже если бы Альбертина объявила мне, что уезжает, я бы угрожал ей, умолял бы ее. Мне расхотелось бы ехать в Венецию. Так было со мной гораздо раньше в Комбре: мне хотелось познакомиться с герцогиней Германтской, но вот наступал час, когда я мечтал только об одном: чтобы ко мне в комнату пришла мама. Все тревоги, испытанные мной с детства, по зову новой тоски поспешили усилить ее, сплавиться в однородную массу, от которой мне становилось душно.
Разумеется, физического удара в сердце, который наносит такая разлука и который, в силу того, что тело обладает ужасной способностью сохранять рубец, наделяет страдание общей чертой всех мучительных мгновений нашей жизни, – я имею в виду удар, возможно, наносимый с умыслом (так мало нас трогает чужая боль!) той, кому хочется, чтобы причинил нам острейшую боль, – будь то женщина, делающая вид, что уезжает, для того, чтобы мы предоставили ей лучшие условия существования, будь то женщина, уезжающая навсегда – навсегда! – чтобы отомстить за себя или чтобы оставаться любимой, или (чтобы у нас сохранилась о ней светлая память) чтобы разом покончить со сплетением усталости и равнодушия, которые она ощутила, – такого удара мы даем себе слово избегать, мы говорим друг другу, что расстанемся друзьями. Но расстаться друзьями удается чрезвычайно редко, потому что если с кем-то тебе хорошо, то, значит, и незачем расставаться. И вот что еще: женщина, к которой ты выказываешь полнейшее безразличие, тем не менее, смутно угадывает, что, устав от нее, ты, опять-таки по привычке, все сильнее привязываешься к ней, и она думает, что одно из важнейших условий расставания без ссоры – это уехать, предупредив. Но она боится, что если она предупредит, то отъезд не состоится. Женщина чувствует, что чем большую власть забирает она над мужчиной, то единственная возможность расстаться – убежать. Убежать – значит властвовать, это неоспоримо. Конечно, между скукой, которую мы только что испытывали в ее обществе, и, когда она уже уехала неодолимой потребностью увидеть ее вновь существует целая пропасть. Но для отъезда есть все основания, помимо тех, которые я уже приводил, и тех, о которых будет сказано дальше. Прежде всего часто уезжают именно когда равнодушие – действительное или мнимое – достигает крайних пределов, находится на крайней точке колеблющегося маятника. Женщина уверяет себя: «Нет, так дальше продолжаться не может», – уверяет именно потому, что мужчина говорит с ней только о разрыве или думает о нем; и она уходит. Тогда маятник достигает другой крайней точки – расстояние между двумя точками максимально. В течение одной секунды он возвращается на прежнее место; повторяю: вопреки всем доводам, это так естественно! Сердце колотится, а между тем уехавшая женщина – уже совсем не та, что была здесь. Ее жизнь рядом с нами, такая привычная, вдруг видится нам рядом с другими, с которыми она неизбежно соединится, и, вероятно, она и покинула-то нас для того, чтобы с ними соединиться. Таким образом, новая жизнь ушедшей женщины обогащает ее и, возможно, ради нее она от нас и уходит. Известные нам душевные движения, появлявшиеся у нее за время ее жизни с нами, явное для нее наше изнывание от скуки, ревность (в результате мужчин бросали женщины почти во всех случаях из-за их особенностей, которые можно пересчитать по пальцам: из-за их характера, из-за сходства в изъявлении преданности, из-за того, отчего они простужаются), – эти загадочные для нас душевные движения уживаются с душевными движениями, о которых мы не подозревали. Может быть, она с кем-нибудь переписывалась или сообщалась устно, через посланцев, с мужчиной или с женщиной, поджидала знака, который, возможно, мы, сами того не подозревая, ей подали, сообщая: «Г-н X. приходил вчера ко мне», если она заранее условилась с г-ном X., что накануне встречи с ним он зайдет ко мне. Какое широкое поле для догадок! Я так искусно восстанавливал правду (но только в пределах возможности), что, вскрыв по ошибке выдержанное в соответствующем стиле письмо к моей любовнице, в котором говорилось: «Непременно жди знака, чтобы поехать к маркизу Сен-Лу, предупреди его завтра по телефону», я представлял себе нечто вроде плана побега; имя маркиза Сен-Лу значило в письме что-то совсем другое, так как моя любовница была незнакома с Сен-Лу, она только слышала о нем от меня, и, кстати, это скорее напоминало прозвище, не имеющее отношения к письму. Итак, письмо было адресовано не непосредственно моей любовнице, а кому-то еще в доме, чью фамилию трудно было разобрать. Письмо не заключало в себе условных знаков – просто оно было написано на плохом французском языке. Оно было от одной американки – подруги Сен-Лу: так он ее назвал. Странная манера выражаться, в какой были написаны некоторые письма американки, навели меня на мысль о прозвище, хотя на самом деле там указывалось настоящее имя, только иностранное. Итак, в этот день все мои подозрения оказались ложными. Однако у интеллектуальной основы, связывавшей все эти придуманные факты, была такая правильная форма, она была так неопровержимо правдива! Когда, три месяца спустя, моя любовница (в то время собиравшаяся прожить со мной всю жизнь) покинула меня, все произошло именно так, как я представил себе это впервые. Опять пришло письмо с теми же особенностями, которыми я ошибочно наделил первое письмо, но которые на сей раз имели смысл условного знака и т. д.
Отъезд Альбертины был величайшим несчастьем моей жизни. И все же, несмотря ни на что, над душевною болью возобладало любопытство, мне не терпелось дознаться, что же вызвало побег: кого Альбертина предпочла, кого нашла. Но источники крупных событий подобны источникам больших рек: мы напрасно стали бы обозревать земную поверхность, мы бы их не нашли. Ведь Альбертина замыслила побег давно? Я умолчал о том (тогда я объяснял это ее кокетничаньем и дурным настроением, тем, что на языке Франсуазы называлось «дуться»), что с того вечера, когда Альбертина перестала меня целовать, на лице у нее появилось мрачное выражение, она стала держаться прямо, словно застыв, о самых простых вещах говорила с грустью, медленно двигалась, не улыбалась. Я не мог бы указать на ее связь с внешним миром. Сразу после побега Франсуаза рассказала, что, за день до ее отъезда войдя к ней в комнату, она никого там не обнаружила, шторы были задернуты, но запах и шум свидетельствовали, что окно растворено. Альбертина вышла на балкон. Но Франсуазе было не видно, с кем Альбертина могла бы оттуда разговаривать. То, что на распахнутом окне шторы были задернуты, объяснялось легко: я боялся сквозняков, и пусть шторы не укрыли бы меня от них, зато они не дали бы Франсуазе разглядеть из коридора, отчего так рано открыты ставни. Нет, подтверждало то, что Альбертина знала накануне о своем побеге, только одно незначительное событие. Накануне ока вынесла из моей комнаты так, что я и не заметил, много оберточной бумаги и рогожи – в них она упаковывала всю ночь свои бесчисленные пеньюары и халаты, чтобы утром уехать. Это единственный факт, других не было. Я не придаю значения тому, что она почти насильно вернула мне вечером тысячу франков, которые она была мне должна, – тут ничего особенного нет: в денежных вопросах она была крайне щепетильна.
Да, она взяла оберточную бумагу накануне, но об отъезде она знала раньше! Заставила ее уехать не тоска – она загрустила, приняв решение уехать, отказаться от жизни о которой она некогда мечтала. Печальна, холодна и надменна была она вплоть до последнего вечера, когда вдруг, задержавшись у меня дольше, чем ей хотелось, – что удивило меня в ней, не менявшей своих привычек – она сказала, стоя на пороге: «Прощай, малыш, прощай, малыш!» Но в тот момент это меня не насторожило. Франсуаза сказала, что наутро, когда, объявив о своем отъезде, Альбертина была так грустна, вся она была еще более напряженная и застывшая (но ведь в конце концов это можно было объяснить и усталостью, так как она, не раздеваясь, всю ночь упаковывала вещи, кроме тех, которых не было у нее в спальне и туалетной комнате и которые по ее просьбе должна была принести Франсуаза), чем последние дни, и когда она сказала: «Прощай, Франсуаза!» – той показалось, что Альбертина сейчас упадет. Когда об этом узнаёшь, то начинаешь понимать, что за женщину, которая тебе нравилась значительно меньше тех, что встречаются на каждом шагу во время твоих самых обычных прогулок, и на которую ты сердишься за то, что приносишь их в жертву ради нее, ты все же отдал бы тысячу других. Дело в том, что отпадает различие между наслаждением, превратившимся, в силу привычки и, возможно, из-за бесчувственности объекта, почти в ничто, и другими наслаждениями, соблазнительными, восхитительными, между этими наслаждениями и чем-то значительно более сильным возникает жалость.
Пообещав себе, что Альбертина нынче же вечером будет со мной, я принял самое скорое успокоительное решение – вырвать из сердца ту, с кем жил до сих пор. Но, хотя инстинкт самосохранения подействовал во мне быстро, я все-таки, когда Франсуаза объявила мне об отъезде Альбертины, на одно мгновение почувствовал себя беспомощным, и теперь меня успокаивала уверенность, что Альбертина вечером будет здесь; боль, какую я ощутил в тот миг, когда еще не приучил себя к мысли об ее возвращении (миг, наступивший вслед за словами: «Мадмуазель Альбертина попросила собрать ее вещи, мадмуазель Альбертина уехала»), – эту боль я ощутил вновь: она была похожа на ту, какую я испытывал прежде, как будто я еще не верил в возвращение Альбертины. Она должна была вернуться сама. В любом случае заставлять ее сделать этот шаг, умолять ее вернуться значило действовать наперекор себе. У меня уже не было сил отказаться от нее, как отказался я от Жильберты. Даже больше, чем снова увидеть Альбертину, я стремился прекратить физическую боль моего изболевшегося сердца, – так не болело оно у меня никогда прежде, эту боль оно уже не могло выносить. И потом я так привык ничего не желать, будь то желание работать или еще какое-нибудь желание, что это поселило в моей душе робость. Но боль была сильнее по многим причинам, главной из которых являлась, вероятно, та, что я ни разу не испытал плотского наслаждения ни с герцогиней Германтской, ни с Жильбертой, а также то, что, не видя их ежедневно, ежечасно, не имея для этого возможности и, следовательно, потребности, я тем не менее чувствовал, что в моей любви к ним самое большое место занимает привычка. Быть может, теперь, когда мое сердце не тянулось к страданию, не хотело страдать добровольно, оно находило единственно возможное решение: возвращение Альбертины любой ценой, решение противоположное (добровольный отказ, все усиливающееся смирение) показалось бы мне маловероятной развязкой романа, если бы я сам однажды не пришел к такому решению с Жильбертой. Значит, мне было известно, что это другое решение может быть принято тем же самым человеком: ведь в главном я оставался все тем же. Сыграло свою роль только время, состарившее меня, то самое время, в течение которого Альбертина всегда находилась рядом со мной, пока жизнь шла обычным своим чередом. Но, не порывая с Альбертиной, я хотел сохранить то, что у меня оставалось, когда я порывал с Жильбертой: самолюбие, нежелание, умоляя Альбертину вернуться, быть в ее руках пешкой; мне хотелось, чтобы она возвратилась, не предполагая, что я этого хочу. Чтобы не терять времени, я попытался встать с постели, но меня удержала боль: впервые я вставал с постели после ее отъезда. И все-таки мне нужно было поскорее одеться, чтобы пойти справиться об Альбертине у ее консьержки.
Боль от удара, полученного извне, стремится изменить форму; мы надеемся рассеять мрак, строя планы, наводя справки; мы добиваемся того, чтобы благодаря многочисленным метаморфозам она преобразовалась, – это требует от нас меньше мужества, чем если бы страдание не менялось; ложе, которое мы разделяем со своей скорбью, кажется таким узким, таким жестким, таким холодным!
Итак, я встал; я передвигался по комнате крайне осторожно, я вставал так, чтобы не замечать ни стула Альбертины, ни фортепьяно, педали которого она нажимала своими золотыми туфельками, ни одного из тех предметов, которые были ей нужны и которые, говоря на особом языке моих воспоминаний, казалось, хотели перевести на особый язык ее отъезд, создать другой его вариант. Но и не глядя на них, я их видел; силы оставили меня, я рухнул в голубое атласное кресло, – отлив этого атласа час назад в полумраке комнаты, озаряемом единственным лучом света, навевал мне страстные мечты, столь далекие от меня сейчас. Я не садился в кресла до этой минуты, то есть пока Альбертина была еще здесь. Я не усидел – я встал; так ежеминутно возникало какое-нибудь из бесчисленных маленьких «я», из которых мы состоим, – «я», еще не знавших об отъезде Альбертины и ждавших уведомления о нем; мне предстояло, – и это было куда больнее, если б это были чужие «я» и не обладали бы моей привычкой к страданиям, – объявить о только что случившемся несчастье всем этим существам, всем этим «я», еще не знавшим о нем; надо было, чтобы каждое существо услышало впервые эти слова: «Альбертина попросила вынести ее чемоданы» (я видел, как грузили эти чемоданы, своей формой напоминавшие гробы, в Бальбеке, вместе с чемоданами моей матери), «Альбертина уехала». Каждое существо я должен был обучить своей восприимчивости, причем она вовсе не является пессимистическим выводом, сделанным просто из рокового стечения обстоятельств, но неточным и невольным восстановлением особого впечатления, которое мы получили извне и не по нашему выбору. Были среди моих «я» такие, которых я не видел очень давно. Например (я не подумал, что нынче день стрижки), то «я», каким я был, когда ходил подстригать волосы. Я забыл об этом «я», при его появлении я разрыдался, как рыдают на похоронах при появлении старого уволенного слуги, который знал умершую. Потом вдруг вспомнил, что уже целую неделю на меня временами нападал панический страх, но только я себе в этом не признавался. Я рассуждал так: «Ведь правда же, странно предполагать, что она уехала внезапно? Это было бы нелепо. Если бы я поручил ее заботам человека рассудительного, умного (я бы, если б не ревность, так бы и поступил), он наверняка сказал бы мне: «Да вы с ума сошли! Этого не может быть. (И правда: мы ни разу не поссорились.) Обычно уезжают, потому что для этого есть повод, и поводе вас извещают. Вам предоставляют право возразить. Ведь не уезжают же вот так. Нет, это чепуха.