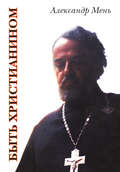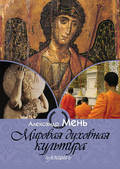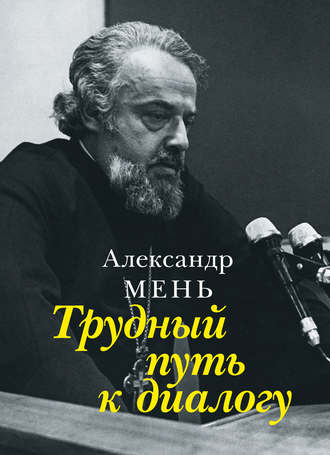
протоиерей Александр Мень
Трудный путь к диалогу
© М. А. Мень, текст, 2008
© Издательский дом «Жизнь с Богом», 2008
* * *
Предисловие
Передо мной лежит сборник статей, написанных в разное время, вышедших на страницах различных газет и журналов. Я долго, внимательно в них вчитывался, ища самого отца Александра, и сначала не мог его там найти. Его речь была обращена не ко мне, я не узнавал его голоса. И внезапно мне стало ясно – почему. Когда мы встречались с ним, мы говорили о том, что мы оба знали, чем мы жили, ради чего мы жили. Не нужны были ссылки, цитаты; между нами шла проверка – так ли мы понимаем пути Божии, Его Слово: мысль шла вглубь, в те глубины, где, как в глубинах морских, нет ни волн, ни ряби, ни звуков, а только торжественно царит созерцательное молчание, то молчание, из которого, и только из которого, может прозвучать слово Истины, предельно ясно раскрывающее все то, что можно выразить на человеческом языке. Правдиво сказал один из западных молчальников-картезианцев, что «если мы справедливо называем Христа Словом Божиим, то мы так же справедливо должны прозреть в Боге и Отце то бездонное молчание, из которого только и может прозвучать Слово, являющееся самой Истиной».
Как и я, многие из духовных детей отца Александра станут искать в предлагаемых статьях того наставника, которого они знали, который свою веру переливал из своего сердца в сердца приходящих к нему с уже созревшими вопросами, и не сразу его в этих статьях узнают. Причина тому, как мне кажется, в том, что статьи написаны не только и не столько в ответ на назревшие вопросы, сколько с целью возбудить таковые, заставить читателя призадуматься, развернуть перед его взором как можно более широкую картину человеческой мысли и человеческого опыта – помочь ему вырваться из плена суженного, обедневшего мировосприятия на просторы жизни, такой же глубокой, как сам человек, такой же бездонной, как глубины Божии. Этим объясняется то, что отец Александр приводит примеры из всемирной истории, из литературы всех народов и поколений; призывает как свидетелей той правды, которую он провозглашает, мыслителей и деятелей всех стран и языков. В этом нельзя усмотреть желание похвалиться своей ученостью, начитанностью и в области науки, которую он знал профессионально, и в области всемирной культуры. Но, как святой апостол Павел сказал о себе, он хотел быть «всем для всех», говорить на языке каждого читателя, встретить собеседника на его собственной почве, всего лишь открывая ему доступ к более широкому, к более глубокому пониманию вещей. Он без страха, без стеснения вступал на почву инакомыслящего и бережно раскрывал перед ним горизонты, ему дотоле неведомые, пути, по которым он мог идти, не боясь себя осрамить, ибо если величайшие умы древности и современности, и писатели, и ученые, и философы, и политические теоретики и деятели, могли быть верующими, то каждый имеет право на веру. Основой статей отца Александра Меня служила двоякая вера – вера в Бога, Которого он знал внутренним своим опытом, и вера в человека, но не ущербленного, умаленного человека, каким его представляет себе безбожник, а человека столь великого по призванию, столь глубокого, что он может – не переставая быть тварью и самим собой – «приобщиться к Божественной природе», по слову святого апостола Петра. «Если хочешь узнать, как велик человек, подыми взор к Престолу Божию, и увидишь Человека (Христа), сидящего одесную Бога и Отца».
Эти статьи могут, должны каждого пробудить к вере в человека, раскрыть его понимание, научить каждого, кто хочет быть учеником и последователем отца Александра Меня, открыться «внешним», принять их в свое сердце, научиться говорить с ними их языком, чтобы наша речь стала животворной струей, росой, благодаря которой чахнущие души вздрогнут и оживут. Только тогда станем мы, читающие статьи отца Александра, его последователями, наследниками. В свою меру и он обращается к нам со словами Спасителя Христа: «Я вам дал пример – последуйте ему!» Пусть каждый прикоснувшийся к его светлой и мудрой душе возблагодарит Бога за то, что и в наше безвременье есть подобные ему свидетели Веры, Жизни, Правды – и Божией, и человеческой.
Митрополит Сурожский
+ АНТОНИЙ (1991 г.)
Вчера, сегодня, завтра
Суеверия, разум, вера
В пятом номере журнала «Горизонт» за 1988 год появилась новая рубрика «Мировоззрение», которая открывается интересной статьей Александра Гангнуса «Демократия духа». Автор остро ставит вопросы об атеизме и суеверии, разуме и вере и, как мне кажется, приглашает к дискуссии.
Дискуссия – добрый симптом, отражающий основную тенденцию перестройки и обновления нашего общества. Ведь то безоговорочное «единомыслие», о котором когда-то мечтал Козьма Прутков, – лучшее средство создавать и поддерживать застой. Разнообразие мнений, напротив, не только помогает критически и творчески мыслить, но и ведет к более полному пониманию оппонентов и более глубокому обдумыванию собственной позиции.
До недавнего времени мы, верующие, – священники и миряне – почти не участвовали в обсуждении мировоззренческих и общественных тем. У нас была лишь возможность выступать по вопросам защиты мира, которые, говоря откровенно, имеют в основном внешнеполитическую направленность (едва ли в нашей стране нужно кого-нибудь убеждать, что война – это зло).
Сейчас ситуация изменилась. В печати неоднократно подчеркивается, что хотя Церковь и отделена от государства, от общества верующие не отделены. Эпоха гласности побуждает многих из нас к открытому выражению своих точек зрения.
Разумеется, в этой короткой заметке-реплике невозможно всесторонне обсудить темы, поставленные в статье Александра Гангнуса. Но ведь и сам он не претендовал на подобную полноту.
Исходным его тезисом является выделение трех подходов к проблеме веры и разума, сложившихся в настоящий момент. Это, во-первых, капитуляция перед иррационализмом, во-вторых, «прокурорская» тенденция запретительства и, в-третьих, признание нравственности единственной точкой соприкосновения между религией и атеизмом. Все три подхода Александр Гангнус считает (и не без основания) «ущербными» и выдвигает четвертый – критический, который, по его словам, требует «полной правды и гласности». С этим вполне можно было бы согласиться, если б не создавалось впечатление, что автор статьи является сторонником абсолютного рационализма и видит в научных методах, в рассудке, в «здравом смысле» последнюю инстанцию для решения всех мировоззренческих вопросов. Поэтому мне бы хотелось дополнить его концепцию, внеся в нее некоторые существенные коррективы.
В статье справедливо констатируется, что за последние десятилетия сильно возрос интерес к парапсихологии, экстрасенсам, НЛО и другим нестандартным явлениям. Несомненно, прав автор и в том, что этот интерес зачастую переплетен с нездоровой сенсационностью, эксцессами и суевериями. И все же я не торопился бы огульно относить всю такого рода «экзотическую» проблематику к области чисто иррациональной. Данные о необычайных феноменах все еще требуют тщательного анализа, результаты которого нельзя догматически предрешать. Известно, что в истории многие открытия сопровождались ошибочными толкованиями и вначале вызывали резкое неприятие. Итак, подход должен быть объективным: если факты подтвердятся, их следует принять, если нет – либо отвергнуть, либо ждать дальнейших исследований. Пока же вопрос, по-моему, остается открытым. Но еще раз подчеркну: тут неуместна дилемма «верить или не верить». Если, например, будут найдены бесспорные следы космических пришельцев, значит, они существуют. Ведь их реальность относится вовсе не к области веры, а к компетенции науки (имею в виду так называемые естественные науки, так как гуманитарные слишком идеологизированы).
Другое дело – вечные вопросы, которые не поддаются экспериментальной проверке с помощью научных методов. Это вопросы о смысле жизни, конечных причинах, духовном бытии, высшей Реальности. Они носят иной характер и опираются на иной опыт, отличный от научного. Здесь спорят не осязаемые факты, а различные убеждения и формы веры. Эволюция культуры немыслима без этого диалога, дискуссии мировоззрений.
Иметь мировоззрение, веру, принципы – привилегия человека. Опытным путем познают мир и животные (конечно, на своем уровне), но мировоззрения они, естественно, иметь не могут.
Научные методы и данные лишь способствуют конкретизации тех или иных взглядов, будь они атеистические или религиозные. Но сам источник убеждений любого типа коренится не столько в материальном опыте, сколько в опыте духовном, внутреннем, проистекает из определенного видения мира. Атеизм существовал в Индии, Греции и Китае, когда наука была еще в зачатке, а религия эволюционирует и в эпоху НТР.
Как верно заметил известный английский историк Арнольд Тойнби, неверующих, строго говоря, не существует.
Все люди имеют какую-либо веру, осознанную или бессознательную. Вера в безначальность Вселенной имеет не больше экспериментальных доказательств, чем вера в Творца. Для атеиста законы природы являются аргументами против бытия Божия, а для религиозного человека как раз эти законы и свидетельствуют о вселенском Законодателе. Его не может смутить развитие научных знаний. Скорее наоборот. Чем сложнее представляется ему природа, тем совершеннее должна быть ее первопричина. «Вселенная, – писал астроном Джеймс Джинс, – постепенно вырисовывается скорее как великая мысль, чем как большая машина».
Кроме веры и науки, в сознании всех обществ определенную роль издавна играли суеверия. Но в отличие от науки и религии они никогда не обладали той могучей культуротворящей силой, которая присуща великим религиозным учениям. Именно эти учения породили философию Платона и фрески Аджанты, собор св. Софии и «Троицу» Андрея Рублева, вдохновляли Данте и Баха, Паскаля и Достоевского. От идей, которые питали чудесные плоды мировой культуры, нельзя отмахнуться как от суеверий, как от интеллектуальной плесени, как от издержек человеческого духа. И в то же время эти идеи далеко не исчерпывались рациональным аспектом.
Гёте как-то сказал, что в подлинной реальности при анализе всегда будет обнаруживаться некий неразложимый остаток. Точно так же глубинная сущность религиозного опыта не может быть полностью вскрыта с помощью рассудочного скальпеля. И в этом религиозная вера отнюдь не является исключением, обнаруживая родство с тайнами любви, поэзии, музыки, искусства вообще. Никто не станет отрицать, что произведения литературы, подчиненные рассудочным схемам, сухи и безжизненны. Жизнь сложнее схем. В ней есть много такого, что, как говорил Шекспир, не снилось нашим мудрецам.
Чистая рациональность может стать духовно убийственной. В свое время Карел Чапек изобразил цивилизацию, построенную на одном рассудке, в виде царства трудолюбивых и ограниченных саламандр, а советский фантаст Север Гансовский в замечательном рассказе «День гнева» изобразил искусственно созданное племя монстров-отарков, которые, хотя и знали высшую математику, оставались кровожадными хладнокровными хищниками. Это грозные «антиутопические» предупреждения людям. Одной лишь науки, знания, разума для развития человеческого духа и человечности недостаточно. У науки нет ответов на вопросы этики и смысла бытия.
Я хочу быть правильно понятым. Религия не выступает поборницей абсолютного иррационализма. Иррационализм способен принимать и атеистические формы. Достаточно вспомнить имена Шопенгауэра и Ницше, Камю и Сартра. И наоборот, многие религиозные мыслители, в частности русские (П. Чаадаев, Б. Чичерин, С. Трубецкой, С. Булгаков и др.), высоко ставили роль разума и науки.
У Гилберта Честертона, хорошо известного нашим читателям по его детективам, есть рассказ-притча (впрочем, все рассказы Честертона – притчи) «Бриллиантовый крест». В нем отец Браун, своего рода «христианский Шерлок Холмс», разоблачил преступника, прикинувшегося богословом. Тот энергично ругал науку, полагая, что так он легче сойдет за теолога. Но именно на этом-то он и попался.
Конечно, здесь могут привести хрестоматийные примеры церковного обскурантизма и гонений на ученых в прошлом. Однако надо учесть, что сами гонители тоже ссылались на науку, пусть к тому времени уже устаревшую (в частности, на систему Птолемея). Вся беда шла не от христианства, а от нетерпимости и применения «силовых приемов» в споре. Но это в равной степени может быть недугом и христиан, и атеистов (взять хотя бы трудную судьбу генетики, космологии, кибернетики и т. д.).
Очень верно было сказано, что сон разума рождает чудовищ. Но не менее страшных чудовищ – саламандр и отарков – может произвести абсолютный рационализм.
Где же выход? Думается, что путь к истине нужно искать не в однобокой рассудочности и не в темном иррационализме, а в органическом взаимодействии разума и интуиции, веры и знания.
Этот принцип еще со времен отцов Церкви постоянно разрабатывало христианское богословие. В русской религиозной мысли он был четко сформулирован Владимиром Соловьевым, который утверждал, что сложной иерархической структуре реальности соответствуют три основных метода постижения: материальная действительность познается эмпирической наукой, идеальный план – отвлеченной философией, высшая же духовная реальность постигается интуитивным опытом. У каждого рода знания своя собственная сфера, и они не должны служить препятствием друг для друга.
Если К. Э. Циолковский, разрабатывая теорию реактивных двигателей и космических полетов, опирался на эмпирическое знание и математику, то совсем иначе он пришел к идее Причины космоса, которая, по его словам, «есть высшая любовь, беспредельное милосердие и разум».
Дифференцированный подход к бытию отвечает самой природе человека, которая отнюдь не однородна. В ней действуют элементарный рассудок и отвлеченный разум, интуиция и чувство. Гармоничность индивидуума определяется сбалансированным соотношением этих начал. Точно так же пути постижения, при всем их качественном своеобразии, не изолированы, а находятся во взаимодействии. Об этом красноречиво свидетельствует история мысли.
«Интуиция, вдохновение, – писал Владимир Иванович Вернадский, – основа величайших научных открытий». А Альберт Эйнштейн в своей статье «Религия и наука» утверждал, что для ученых немаловажным стимулом была их «глубокая вера в разумное начало мироздания». По его словам, «знание о том, что есть сокровенная Реальность, которая открывается нам как высшая Мудрость и блистающая Красота, – это знание и это ощущение есть ядро истинной религиозности». Чарлз Таунс, лауреат Нобелевской премии, один из создателей квантовых генераторов, считает даже, что в будущем религиозные учения и научные теории придут к существенному единству.
В любом случае тот факт, что многие выдающиеся ученые наших дней, такие, например, как Тейяр де Шарден, священник П. Флоренский, Тимофеев-Ресовский (герой романа Д. Гранина «Зубр»), были религиозными людьми, показывает, что гармония между верой и наукой возможна.
«История всех времен и народов, – пишет Макс Планк, – весьма убедительно свидетельствует о том, что из непосредственной, незамутненной веры, которую религия внушает своим последователям, живущим деятельной жизнью, исходили самые сильные стимулы и значительные творческие достижения, причем в области социальной не меньше, чем в области искусства и науки».
Конечно, это возможно лишь при том условии, что религия избегает участи быть «опиумом». Впрочем, им может стать и музыка, и искусство, и многое другое. Но подлинная религиозная вера не уводит от жизни и действия. Менее всего она была «анестезическим средством» для апостола Павла, Яна Гуса, Махатмы Ганди, матери Марии, Альберта Швейцера или Мартина Лютера Кинга…
Не случайно, что человека еще в древности называли микрокосмом, малым миром. Он и в самом деле включает неорганические, растительные и животные элементы. Но он не произвел их. Они даны ему природой, из которой он продолжает черпать силы для своего существования. Если же говорить о специфическом, уникальном свойстве человека, отличающем его от зверя, то оно складывается из мысли, творческого дара, сознания, совести – словом, того, что принято называть духом. Мы, христиане, верим, что дух, подобно плоти, дан человеку; однако, будучи нематериальным, он имеет и нематериальное происхождение. Как тело есть часть природы, так дух принадлежит к духовному измерению бытия. Тело подчинено закону распада, дух причастен Вечности.
Говоря библейским языком, личность человека несет в себе образ и подобие Творца. Поэтому Евангелие провозглашает ее высшую ценность. Христианство отказывается рассматривать личность только как часть «массы» или средство. Знаменательно, что, согласно евангельской притче, пастух оставляет девяносто девять овец, чтобы отыскать одну, пропавшую. «Какая польза человеку, – говорит Христос, – если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Богатство души умножается тем, что человек отдает: в любви, в труде, в служении. По учению Евангелия, Бог открывается людям как их Отец и тем самым делает их братьями.
Здесь, в персонализме Нового Завета, мне кажется, можно найти общую почву для христиан и представителей всех видов гуманизма – религиозного и светского. Почву, на которой возможны диалог и сотрудничество, а также совместная борьба против антигуманных сил.
Какими бы кардинальными ни были различия наших взглядов, у нас есть немало общих задач в сфере развития личности и свободы, справедливости и милосердия, права и семьи, в сфере социальных и национальных отношений, в вопросах выживания человеческого рода, экологической и трудовой этики. Во все это христиане могут внести свой вклад. Но без умения уважать друг друга, уважать чужие взгляды нам не обойтись.
И у верующих, и у атеистов в прошлом было достаточно темных страниц. Об этом надо говорить честно и открыто. Призыв к покаянию, прозвучавший в фильме Абуладзе, касается и Церкви. Но не менее важно не просто сводить старые счеты, а начать спокойный диалог. Терпимо и терпеливо разбираться в общих проблемах. Работать вместе над созиданием лучших условий для духовной и материальной жизни людей.
Трудный путь к диалогу
(О романе Грэма Грина «Монсеньор Кихот»)
Действие романов Грэма Грина нередко происходит в краях, далеких от его родины. Это объясняется не просто тем, что писатель много путешествовал, или его любовью к экзотике. Грина притягивают те районы земли, где героев легче всего поставить в экстремальную ситуацию, где особенно бросаются в глаза язвы нашего столетия: произвол и цинизм политиков, бесправие, нищета, невежество. Когда же он обращается к Европе, то обычно выбирает напряженные, кризисные моменты ее истории («Ведомство страха», «Десятый» и др.). При этом он далек от мысли, что драматизм жизни обусловлен исключительно внешними, политическими и общественными, факторами. С какой бы страной он ни связывал судьбу своих героев – с Англией или Францией, Мексикой или Вьетнамом, – на первом месте у него стоят вечные вопросы о добре и зле, долге и компромиссе, мужестве и избрании жизненного пути. Он всегда готов срывать маски с фальшивых авторитетов и умеет находить героизм там, где его меньше всего ожидаешь найти.
Новая книга Грина переносит нас в Испанию 70-х годов, которая после смерти генералиссимуса Франко стоит на распутье. Коммунисты вышли из подполья. Церковь, уже при Франко ставшая на путь оппозиции деспотизму, все более склоняется в пользу демократических преобразований. Но сторонники жесткого режима все еще рвутся к власти, создавая атмосферу подозрительности и страха.
К восприятию «Монсеньора Кихота» наш читатель в какой-то степени уже подготовлен недавними выступлениями Грина в Москве, когда он много раз публично выражал надежду на возможность не только диалога, но и сотрудничества между христианами и коммунистами. Говорил он об этом с улыбкой, сознавая, что высказывает идею, непривычную для советской аудитории (ведь речь шла о традиционно конфронтирующих мировоззрениях). Парадоксальность его заявлений усугублялась еще и тем, что Грин, католик (пусть и свободомыслящий), критиковал равно и марксистов, и Ватикан.
В таком же парадоксальном ключе построена его книга «Монсеньор Кихот», одновременно и философская, и немного озорная.
Надо заметить, что Грин, говоря о серьезных вещах, как правило, уклоняется от серьезного тона. Трудно отделаться от впечатления, что он хочет любой ценой избежать ложного пафоса и для этого использует как камуфляж иронию, сатиру, юмор, подчас даже грубоватый, прячась за парадоксами, как то издавна было принято в английской литературе.
Вероятно, в этом заключен один из ответов на вопрос, почему «Монсеньор Кихот» представляет собой своеобразную параллель к эпопее Сервантеса. Именно Сервантес с удивительным искусством раскрыл величие своего «благородного безумца», рассматривая его сквозь призму иронии.
Можно найти и другую причину того, что патроном своей книги Грин избрал Сервантеса.
Фигуры Рыцаря печального образа и его оруженосца иногда толкуются как «литературный миф», как символ двух противоречивых ликов одной души (подобно Фаусту и Мефистофелю у Гёте). Отправляя в путешествие священника и коммуниста, которые считают себя потомками героев Сервантеса, Грэм Грин дает понять, что их связывает глубокое родство, гораздо большее, чем кажется на первый взгляд.
Монсеньор Кихот – простодушный и кроткий старик, склонный, однако, к независимым мыслям, сомнениям и нестандартным поступкам. Во многом он напоминает персонаж другого английского романа – миссионера из книги Арчибалда Кронина «Ключи Царства», хотя характер веры у них разный. У кронинского отца Чисхолма она коренится в выстраданном духовном опыте; у отца Кихота ее в большей степени определяет верность призванию и долгу. Оба священника – «неудобные люди» в глазах своего начальства, оба находятся с ним не в ладах, но оба до конца сохраняют верность Церкви.
Верен своей партии и мэр-коммунист Санчо, невзирая на то, что его тоже периодически охватывают сомнения. Как и подобает потомку Санчо Пансы, он трезвее и практичнее отца Кихота, но все же в нем слишком много идеализма, чтобы быть точным двойником своего предка. Не случайно в глухом, провинциальном городке единственным человеком, который ему душевно близок, оказывается, как ни странно, католический священник.
Они постоянно спорят и поддевают друг друга, но этот спор идет на равных, поскольку оба находятся в сходном положении и оба в каком-то смысле ощущают себя аутсайдерами.
За смешной и печальной историей двух друзей, пустившихся, как некогда герои Сервантеса, навстречу приключениям, в романе стоит раздумье о людях, исповедующих «две веры», осевые для нашей эпохи.
Разумеется, Грэм Грин знает, что кроме этих «двух вер» существует немало и других религиозных, политических и философских доктрин. В его собственных книгах изображаются подчас самые экстравагантные культы, вроде вудуизма. Но он знает и то, что по сей день христианство и марксизм остаются ведущими и наиболее влиятельными учениями, хотя бы по числу своих приверженцев.
Следует сразу оговориться: марксистский атеизм интересует писателя-католика больше как учение, а не как политическая система, принятая в том или ином государстве. Точно так же и христианство не исчерпывается для него системой католических церковных институтов. Хотя в романе к месту и не к месту поминаются имена Ленина, Сталина, Троцкого, главным остается противостояние идей, а не политическая реальность социальных структур.
К этим структурам Грин в лучшем случае относится весьма прохладно и с большой долей скептицизма. Церковных и партийных функционеров он обычно наделяет чванством, нетерпимостью, узостью взглядов и черствостью. Из книг Грина можно заключить, что при господстве политических бонз и клерикальных чиновников лучше всего живется законопослушным бескрылым обывателям, ловким проходимцам и бюрократам.
Спору нет, в этом заключена печальная доля правды, но отнюдь не вся правда. Иначе у христианства и марксизма было бы куда меньше умных, убежденных и жертвенных последователей.
Объективность требует признать, что две ведущие мировые силы обладают мощной притягательностью, что идеи их намного богаче, чем может показаться при чтении незатейливых перепалок отца Кихота и мэра Санчо.
Понимают это, по-видимому, и сами герои романа. Когда речь заходит о сути дела, Санчо, задумавшись, вынужден согласиться, что эмблемы обеих «вер», его и Кихота, каждая по-своему, «символизируют протест против несправедливости». Хотя он напоминает монсеньеру о разделяющей их «глубокой пропасти», Грин ни на минуту не дает забыть, что на противоположных ее краях стоят люди, которые понимают и любят друг друга.
Вместо анафемы – протянутая рука.
Вместо «образа врага» – «образ друга».
Думается, подобный подход подсказан Грину тем небывалым прежде сотрудничеством христиан и марксистов-оппозиционеров, с которыми он познакомился в странах Латинской Америки. Он наверняка читал известный документ чилийской компартии, в котором сказано, что Церковь «много сделала для защиты преследуемых и страдающих, став голосом тех, кто лишен права голоса, кто подвергается гонениям со стороны тирании. Ее действия создали условия, способствующие нынешнему сотрудничеству христиан и марксистов во имя Чили и ее народа, и помогают созданию основ для творческого и плодотворного существования в будущем».
Грину, видимо, знакомы и взгляды тех коммунистов, которые считают, что у «христиан есть основания, чтобы участвовать в движении за демократические перемены и содействовать построению более справедливого общества».
С другой стороны, писатель хорошо знает о так называемом «богословии освобождения», которое было популярно среди латиноамериканских католиков в 60–70-е годы. Именно идеи «богословия освобождения» звучат в эпилоге романа Грина «Комедианты». При погребении повстанцев гаитянский священник-метис говорит: «Церковь живет в мире, она часть мирских страданий, и, хотя Христос осудил ученика Своего, отсекшего ухо рабу первосвященника, сердца наши с теми, кого муки людские побуждают к насилию. Церковь против насилия, но равнодушие она осудит еще суровее. На насилие может подвигнуть любовь, от равнодушия же этого ждать нельзя. Одно есть несовершенство милосердия, другое – совершенный облик себялюбия…»
Грин убежден, что именно «протест против несправедливости», стремление защитить страдающих создают мост между марксистами и христианами. Эта мысль писателя подтверждается опытом европейского Сопротивления, а православным людям она понятна по опыту Отечественной войны, когда они, словно забыв о недавних трагических событиях – о гибели сотен тысяч верующих, жертв сталинского террора, – сохранили дух солидарности, сражались и трудились вместе со своими неверующими согражданами.
Герои «Монсеньора Кихота» постоянно приходят к выводу, что оба живут верой, в частности верой в лучшее будущее, хотя каждый понимает его на свой лад, что в той и другой «партии» есть как истинные последователи, так и те, кто использует ее для удовлетворения своего властолюбия, карьеризма или для того, чтобы сбросить с себя груз ответственности. Монсеньор уважает искренность взглядов своего спутника. Мало того, в мечтах он представляет себе, «как будет крепнуть их дружба и углубляться взаимопонимание и даже наступит такой момент, когда их столь разные веры придут к примирению».
Что это? Очередной парадокс Грэма Грина? Или еще одна попытка сблизить евангельское учение и марксизм? Такие попытки действительно существовали, и Грину они известны. Наши читатели могли познакомиться с ними через книгу Хьюлетта Джонсона «Христиане и коммунизм», изданную в русском переводе в 1957 году. Покойного настоятеля Кентерберийского собора настолько увлекла эта идея тождества двух доктрин, что в своей книге он дошел до весьма странного утверждения, будто Иисус Христос лишь провозгласил нравственный идеал, а Сталин осуществил его на практике…
Но даже если оставить в стороне подобные эксцентричности, вызвавшие в Англии настоящий шок, и взять идею в ее умеренной форме, Грин вряд ли целиком ее разделяет. Он прежде всего имеет в виду общие черты «двух вер» и возможность их конвергенции в жизненной практике.
И все же ради сближения марксизма и христианства Грину, быть может, невольно, приходится упрощать и то и другое. Разбросанные по книге цитаты из «Манифеста Коммунистической партии» и трудов отцов Церкви нехарактерны и маловыразительны. И едва ли верна аналогия между «Манифестом», христианской классикой и обветшалыми рыцарскими романами, которые читают и которым верят одни чудаки.
В рассуждениях отца Кихота совсем незаметны те перемены, которые произошли в католическом христианстве после II Ватиканского Собора (может быть, этим подчеркнута провинциальность монсеньера?). Нравственные доктрины по-прежнему заключены для него в прокрустово ложе нудной казуистики. Болезненная и трудная проблема регуляции рождаемости выглядит в дискуссиях друзей почти фарсом. Не желая, видимо, чтобы его сочли безоговорочным апологетом Церкви, Грин вкладывает в уста отца Кихота мало убедительных доводов и не отдает преимущества ни одной из спорящих сторон.
В результате, хочет того Грин или не хочет, коренное различие христианства и марксистского атеизма в романе почти стирается.
Остается только поверхностное сходство.
И здесь и там – вера в будущее; и здесь и там – мечта о лучшей участи для людей; и здесь и там – столкновение между бюрократами и энтузиастами.
В действительности дело обстоит куда сложнее.
Можно принять точку зрения писателя, считающего, что в обоих случаях мы имеем дело с определенной суммой верований. Ведь как нельзя эмпирически доказать реальность Высшего Начала и грядущего Царства Божия, так нет эмпирических доказательств неизбежности наступления на земле светлого будущего. История, скорее, напротив, свидетельствует, что тирания и варварство возвращаются вновь и вновь с неизменным упорством.
И если Грин называет христианство и марксизм «верами», это не значит, что он умаляет их роль и ценность. Именно интуитивная вера рождает различные формы мировоззрений, для которых уже потом люди подыскивают обоснование и подтверждают их научными и логическими аргументами. Даже для естествознания вера оказывается важной предпосылкой. Эйнштейн, в частности, подчеркивал, что нельзя изучать природу, не веря в то, что она рационально устроена.