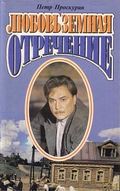Петр Лукич Проскурин
Седьмая стража
Дыхание у него прервалось, остановилось, затем участилось и стало горячим, – совершенно случайно глянув в небольшой коридорчик, отходивший в сторону от основного прохода и кончавшийся железной дверью в специальное помещение для работы с документами, запрещенными для выноса из архива, он увидел пробивающуюся из-под этой двери узкую полоску света. «Забыли, вероятно, выключить», – сказал он себе, ощущая странную и сладкую пустоту в груди, – заставив себя сделать последние три или четыре шага, он толкнул дверь. Оказавшись, вопреки всем инструкциям, неопечатанной и даже незапертой, она сразу же поддалась, и Одинцов завороженно протиснулся в секретную комнату. Старик сидел в самом дальнем углу за одним из столов, сосредоточенно перебирая пухлую груду каких-то старых бумаг. Одинцов потер лоб ладонью – старик не исчезал, лишь его большая седая голова с отросшей чуть ли не до плеч гривой, взъерошенная борода, насупленные кустистые брови, морщины, глубоко иссекшие весь его лик, узкая ладонь с длинными сухими пальцами на ворохе, очевидно, уже просмотренных бумаг, сутулые плечи, обтянутые какой-то незнакомой Одинцову мешковатой одеждой, – весь чудный облик таинственного летописца приобрел зримую конкретность и достоверность.
«Такого не может быть, – сказал себе зачарованный ученый муж. – Бред, галлюцинация, переутомление последних недель – все что угодно…»
Он не успел додумать до конца и хоть как-нибудь объяснить происходящее – свет в просторном помещении, с тремя каменными столбами, поддерживающими шатровые своды, как бы сам собой усилился, и старик поднял голову.
«Проходи, – внятно и значительно сказал он. – Давно жду…»
И тогда страх, неуверенность, сомнения – все исчезло, и наступило душевное облегчение и просветление; пристально вглядываясь в лицо старика и начиная различать в нем какие-то давно знакомые черты, уже почти вспоминая их и проникаясь к старику беспредельным доверием и теплотой, Одинцов кивнул. Предоставлялась возможность высказаться о самом сокровенном, без малейшей утайки, – открыто и прямо встретив взгляд старика, приблизившись к нему, Одинцов спросил: «Кто ты и откуда ты меня знаешь?»
Старик прищурился, и Одинцов, внутренне вздрогнув, собрал всю свою волю, стараясь выдержать; незнакомый, нездешний, какой-то потусторонний взгляд старика проникал сквозь него, устремляясь куда-то дальше, в неведомое, и Одинцов чувствовал разгоравшееся желание освободиться, подступиться к старику и опрокинуть его в прах.
«Ты пришел в смятении, – сказал старик, почесывая у себя за ухом длинной палочкой, оказавшейся в его руке. – Не там ищешь… Я всего лишь легенда, и если ты уж разыскал меня, тебе совсем скверно. Не знаю, чем я могу помочь… Вглядись, разве ты не узнаешь себя?»
«Я не за помощью, – стал оправдываться Одинцов в сильном расстройстве – так поразили его последние слова старика. – Да, мне плохо, ты прав… Я лишь хочу понять – почему? Хотя что я говорю… Ничего нельзя понять окончательно. В борьбе живого с мертвым нет смысла».
«Допустим, но ты ведь пришел сюда глухой ночью, – напомнил старик. – Ты думаешь найти невозможное, в мире нет только правых или только виноватых, так не бывает – возьми самого себя…»
«Согласен, – обрадовался Одинцов. – Но так, как ты утверждаешь, тоже не бывает – кто-то должен идти впереди…»
«Ты озлоблен сейчас, – сказал старик, – обиделся на близкого человека, ты, по твоему убеждению, сделал ему много хорошего… Ты его полюбил, в нем ты нашел свою вторую тайную половину души, неосуществленную, задавленную и оттого особенно дорогую. Ты не должен обижаться, твое добро для его души опустошение и гибель. Ты проводил его надолго, и ему предстоит мученическая судьба, но без этого он был бы несчастным человеком. Он из высших посвященных в братстве, и зря ты не проводил его напутственным словом…»
«Ты бредишь, старик, – сильно побледнев, с угрозой сказал Одинцов. – Какое братство? Какое напутствие?»
«Не кощунствуй даже перед своей собственной душой, ты лучше других знаешь – какое» – остановил его старик, повелительно вскидывая голову.
«Кто же прав? – тихо спросил Одинцов. – По другому мне нельзя, и ты это тоже хорошо знаешь…»
«Я уже говорил, в жизни нет правых, – вздохнул старик. – Забудь и делай свое. Дашь разрастись обиде, погубишь дело. Стало много пророков, а пахарей, упорно и мерно ведущих свою борозду во тьме жизни, все меньше, – хлеба же и счастья требуют все. А пророки больше всего… Успокойся, веди свою борозду, она целительнее разрушительных и бесплодных слов пророков».
«Спасибо, – поклонился Одинцов с больным, беспокойным блеском в глазах. – Кто помнит о земляных червях, хотя они и полезны? Или все бессмысленно? Тяжкий, безгласный труд и высокий подвиг – все в конце концов обращается в прах и нет смысла искать, страдать и жалеть? Так тоже не бывает… Или я оступился – где, когда?» – забормотал он, стараясь встряхнуть и пробудить в себе все прошлое.
«Человек торопится успеть, – пояснил старик, и его брови нависли еще ниже и теперь почти совсем скрыли глаза. – И однако всему свое время, жди! То, что сегодня темно и запутанно, завтра станет ясно малому ребенку, такова жизнь человека, ее закон. Ничто не исчезает бесследно, ни тайное злодейство, ни безымянный подвиг, все в свой срок обретает голос. Не торопи судьбу».
«Но кто же ты, кто? Мне это очень важно, – затосковал Одинцов – странные и темные речи старика вызвали в его душе опустошительную и бесполезную жажду, и хотя он все время знал, что именно об этом нельзя спрашивать, но удержаться не мог. – Зачем ты позвал меня?»
И старик задумался, от бессмысленного и ненужного вопроса его лицо преобразилось, приобрело твердость и определенность, и Одинцов, заслоняясь, отступил. Он даже самому себе не мог признаться в происшедшем дальше. В руках у старика появился большой старый мешок, он сгреб в него груду бумаг со стола, встав и шагнув назад, оглянулся, шевельнул седыми усами, изображая улыбку, и в мозгу профессора вспыхнули слова: «Все забудь, слышишь?» Затем старик встряхнул мешком и исчез в стене, – перед глазами у Одинцова поплыла непроницаемая темень. Очнувшись, постепенно приходя в себя и с трудом встав с пола, он узнал свой просторный кабинет на втором этаже. Он помнил единственное – проступившие в самый последний момент в лике старика свои собственные глаза.
17.
На следующей неделе после трудного, в чем-то даже мучительного разговора с шурином, Меньшенин отправил в отдел кадров института заявление на имя директора с просьбой об увольнении. Зоя с мальчиком по-прежнему находилась в Крыму, и ее возвращения ждали только через несколько дней, – Одинцов послал сестре спокойную телеграмму, с пожеланием не волноваться, отдыхать и набираться сил, а сам еще дважды наведывался к зятю, – душевное напряжение у него нарастало. Однажды, прогуливаясь по Пушкинской площади, он остановился и быстро оглянулся, – перед ним словно бы мелькнуло лицо зятя, заросшее, с провалившимися глазами, безумными от веселой дерзости; кажется, эти сумасшедшие глаза даже подмигнули. Одинцов застыл столбом, мешая прохожим, не зная, что делать, – его опалило неизвестной ему досель нечистой жизнью.
– Алексей! – крикнул он, бросаясь к переходу, но там уже ползли по улице машины, и само собой явилось сомнение, – так, померещилось от волнения последних дней, подумал он, мелькнуло из марева жизни.
Успокоившись, он отправился дальше, хотя что-то заставило его раз и другой оглянуться – себя нельзя было обмануть, он видел именно зятя и узнал его. И Меньшенин заметил шурина, оттого и шарахнулся прочь, успел перебежать через улицу, нырнул в первую же низкую арку, и долго стоял между деревянным мусорным ящиком и полуразвалившейся кирпичной стеной, вдыхая вонь разлагающихся отбросов. Он вспомнил шатнувшееся назад лицо профессора, опустил голову, стараясь понять и объяснить и свою неожиданную резвость. Затем он легкомысленно пожал плечами, – вверху светилось несколько окон, как бы очерчивая тесное пространство старого московского двора, и Меньшенин долго глядел в темное небо, пытаясь нащупать в нем хотя бы малейший просвет – в небе ничего не менялось, в глазах сквозила одна непроницаемая тьма. Он выбрался из своего убежища, что то внезапно вспомнив, похлопал себя по карманам и сразу успокоился. Деньги пока были, можно еще успеть зайти в Елисеевский, вот чуть-чуть приободриться и зайти. Отчего не покуражиться, с прошлым покончено, кое-какие бумаги он отнес вчера единственному, пожалуй, искренне переживающему за него человеку, Жорке Вязелеву, пребывающему, естественно, в полном недоумении, посидел у него, выпил чашку чаю, с удовольствием выслушал скучнейшую проповедь о добродетели и пороке. Почти не отвечая на расспросы, он лишь с нежностью, словно прощаясь навсегда, украдкой всматривался в лицо школьного друга; он любил этого человека, хотел на прощанье сказать ему нечто серьезное и теплое, и не смог. Он задержал дыхание, стараясь успокоить сильнее забившееся сердце и ничем не выдать себя, – ему стало весело от тяжелой озабоченности хозяина, в голове мелькнула довольно забористая шутка. Зная характер старого товарища и ни за что не желая его обидеть, он удержался – что он мог сказать честному и правильному человеку, всю жизнь боявшемуся неудовольствия и кары власть предержащих? И лицо его окончательно прояснилось, – колесо крутанулось и выбросило именно такой билет, больше никаких скидок ждать не приходилось. История, весьма и весьма изворотливая дама, приспособилась обеспечивать сразу трех любовников – прошлое, будущее и настоящее, даже если они почти несовместимы, и хороший человек Жора Вязелев сам отлично все знает, остальное же его не касается. Остальное или слишком личное, или же обжигающее, неподвластное никому постороннему, а значит, и не нужное ему.
Меньшенин медленно брел тем же путем, даже тем же тротуаром, которым минут пятнадцать назад прошествовал и его ученый шурин, после их неожиданной встречи, – другого, более удобного пути к Елисеевскому не было. Он не обращал внимания на встречных, еще довольно многочисленных, но скоро стал с интересом поглядывать на мелькавшие лица, пытаясь угадать, как живут, что думают эти люди, ну, хотя бы вот та пожилая женщина в черном старомодном платье или вот тот, явно навеселе, парень в офицерском, вероятно, отцовском кителе. Все они заняты своим, никто из них не чувствует, как ему плохо и что он стоит уже на последней черте. Единственным человеком, способным его понять сейчас, была Зоя, ее нет рядом, толкуй после этого о прозрении любви, о вещем сердце. Непостижимо устроен человек, тут же усмехнулся он, была Зоя рядом, то и дело вспыхивало раздражение от ее внимания, от ее стремления все предугадать и предусмотреть, а теперь, когда ее нет рядом, она больше всего и нужна. Впрочем, это и есть самая щедрая милость судьбы, слепая удача – ничего не нужно объяснять, изворачиваться, лгать. Она бы, конечно, поняла, смирилась, она бы в конце-концов даже стала гордиться, у нее ведь жертвенность и романтизм в крови, в характере, но он был обречен, он ничего не мог сказать ей даже в мыслях и, думая сейчас об этом, переступал черту дозволенного, нарушал святость тайны, хотя кто бы мог из идущих с ним рядом и тоже обреченных на тьму неизвестности бросить в него камень?
И еще он знал, что любые рассуждения сейчас глупы и наивны, отдают пошлостью, но он был всего лишь человеком и подобные мысли приятно грели, он сегодня уже разрешил себе достаточно много выпить, – теперь нить должна была размотаться до конца. «А зря я нюни-то распустил, к чему? – стал подбадривать он сам себя. – Совсем ни к чему, даже если на тебя рушится потолок!» Он тут же попытался залихватски улыбнуться бежавшей навстречу, дробно стуча каблучками, девушке, – от неожиданности она оглянулась, придерживая шаг, и уже ответная улыбка у нее готова была прорваться, но момент – и девушка, вздернув носик, вновь неуловимо изменилась в лице и поспешила дальше. Что то испугало ее; не теряя присутствия духа, подчиняясь охватившему его желанию не портить настроение другим, Меньшенин двинулся дальше. Днем, перед тем, как идти и передать свои бумаги Вязелеву, он зашел в парикмахерскую и побрился, ему вымыли голову, и теперь, в вернувшемся ощущении своей молодости, ему были приятны взгляды молодых женщин – какой-то будоражащий мотив появился и бродил в нем в этот вечер.
В Елисеевском он взял две бутылки водки; и опять продавщица за стойкой, уже в среднем, критическом возрасте, оценивающе скользнула по его лицу взглядом, и как-то ласково-безнадежно улыбнувшись, тотчас рассердилась, раздраженно повысила голос: «Ну, проходи, проходи! Дальше!» Поняв и пожалев ее, он пробрался к выходу – над Москвой светился редкий звездный вечер. Как и его шурин до этого, постояв у Пушкина и наслаждаясь чувством тишины и покоя, исходившим или от безмолвного и гордого поэта, или откуда-то из глубин самого себя, слабого человека, существа, уже стоявшего на вневременной черте, он долго не решался тронуться с места. «А что вечность? – с неожиданной неприязнью подумал он. – И что такое вечность? Вот такая похожесть бронзы на формы теплого когда-то, искрометного, жаждущего наслаждений и творчества тела? Стоит, дразнит – сделано на потребу бесцеремонной толпе, давно одураченной, ничего совершенно не понимающей в высоком… Нет, что же? – спросил он себя. – Откуда такой снобизм и к кому? Они-то, эти люди, в чем виноваты, их пожалеть надо…» Бросив прощальный взгляд на сумеречную голову поэта, он пошел по Садовому к Никитским, затем почему-то вернулся и побрел в обратную сторону. Надвинулась глухая ночь, под деревьями бульвара стало совсем темно – на скамейках редко угадывались прижавшиеся друг к другу пары. Еще ему встретилась пожилая дама с громадным догом на поводке; у дога светились глаза, дама же, очевидно, была актрисой. Проходя мимо и косясь на пса, Меньшенин услышал шекспировский монолог, произносимый трагическим шепотом: «Вы, быстрые, как мысли, стрелы молний, деревья расщепляющие, жгите мою седую голову!» Он приостановился, готовясь послушать дальше, но громадный зверь, натягивая поводок, резво повлек трагическую даму дальше, – Меньшенин подумал, что перед ним мелькнула даже не жизнь, а ее отражение, какое-то размытое видение ночного города, мелькнуло и пропало, и опять темнели таинственные вершины старых деревьев над головой; их слабый живой шум не мог заглушить остальные звуки бессонного и кем-то давно проклятого и обреченного города. Теперь и Меньшенина охватило другое чувство – что-то случилось со временем, его ход словно оборвался, вечевой колокол прозвонил, и все замерло в пугающей неподвижности. Начался обратный отсчет, время поползло вспять, и теперь уже ничего нельзя было сделать, ничего остановить.
Наткнувшись на свободную скамейку, он открыл бутылку водки и выпил прямо из горлышка, – вначале стало скверно, толчками поднялась мутная тошнота, затем прошло. «Ну, вот, – сказал он себе равнодушно. – Теперь пошла в ход отрава, чем же ты отличаешься от остальных, послушных и оболваненных человеческих скотов? Зачем тебе водка, ты же знаешь, она тебе не поможет и не успокоит».
Он не опьянел, лишь в голове несколько очистилось, – словно мгновенный, ослепительный взблеск луча рассек темноту и вырвал из мрака летучие моменты чьей-то до крайности нелепой жизни. Он вначале растерялся, затем улыбнулся – это была его жизнь, он узнавал и не узнавал ее и придирчиво досматривая еще какие-то отдельные моменты, старался не упустить даже пустяка, даже мелочи. Именно в этот момент и прозвучал предостерегающий сигнал, словно глухой удар, и потух в цепеневшем мозгу. Времени оставалось мало, оно шло теперь вспять, и медлить было невозможно. С отвращением и брезгливостью к самому себе, он выпил водки еще, и опять – никакого воздействия, голова оставалась пугающе ясной и свободной, ни мыслей, ни воспоминаний. В теле появилась особая, как бы искрящаяся легкость; он свернул с бульвара и углубился в какие-то улочки и переулки, долго плутал в них, – со стороны могло показаться, что он что-то отыскивает. Наконец он забрел в подъезд небольшого двухэтажного дома, поднялся по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, и, равнодушно взглянув на обитую рваной клеенкой дверь с почтовым ящиком на ней и номером квартиры, опустился на ступеньку. И опять молча усмехнулся, – продолжалась все та же попытка прервать или хотя бы затормозить обратный отсчет…
Пахло мышами, кошками, старинной рухлядью, тускло мерцавшая сквозь густой налет пыли лампочка под потолком освещала лари с огромными висячими замками, над ними красовался детский сломанный велосипед, водруженный на стену на большой погнутый гвоздь, рядом прилепилась какая-то лирическая картина в осыпавшейся позолоченной раме – лысый старик с безумными глазами и девушка с растерзанным воротом платья в оборках.
Меньшенин не успел всего обозреть, – инстинктивно оглянувшись, он увидел довольно молодую одутловатую рожу с заплывшими глазами в стеганом восточном халате, – каким-то образом унюхавший о появлении в своих владениях непрошеного гостя, несомненно, хозяин жилья схватил Меньшенина за ворот, поднял, поставил на ноги, подтащил к себе, лениво глянул в глаза и сильно стукнул затылком о дощатую, сооруженную наспех, на живую нитку, стенку, и поломанный детский велосипед задребезжал. Меньшенин посмотрел и укоризненно покачал головой.
– Шатается всякая рвань, дышать становится нечем! Что, еще добавить? – спросил гражданин в халате, намереваясь тут же привести свои слова в исполнение, и у него запухшие глаза приоткрылись от вожделения; на Меньшенина откуда-то из мрака глянула сама душа безжалостного, фантастического города, закружилась голова. Почти невольно он привычным приемом, казалось, невесомо, лишь слегка коснулся туловища и шеи гражданина в халате, и тот подломился, болезненно всхлипнул и стал изумленно оседать на пол; из-за приоткрытой двери раздался пронзительный визг: «Уби-и-или!» Но для самого Меньшенина этот неожиданный эпизод был всего лишь случайным недоразумением – и все эти крики, и заплывшее жиром лицо гражданина в экзотическом халате, и город вокруг, отходивший от дневной суеты и жары, и все больше затихавший к полуночи. Спустившись с лестницы, не оглядываясь, он пошел дальше, не обращая внимания на резкий, продолжавший призывать на помощь голос.
Новый, еще более резкий удар какого-то сторожевого колокола в душе напомнил, что обратный отсчет времени убыстряется, и что сам он сейчас всего лишь выполняет заложенную в нем с самого начала суровую и беспощадную волю, и что ни о чем не стоит больше думать, – любой его шаг просчитан и обеспечен.
Небо по-прежнему было в частых звездах, и он всей грудью вобрал в себя уже очищенный ночной прохладой воздух. Показалось, что на него кто-то глядит в упор, беззастенчиво и безжалостно; он подобрался, его словно выхватили из привычной среды и поставили в перекрестье многих прожекторов на всеобщее обозрение, и тысячи, десятки тысяч жадных, изнемогающих от похотливого любопытства глаз словно всасывались в него, – это сам город, до сих пор безмолвный и безучастный, повел с ним захватывающую, сумасшедшую игру, и его существо в ответ на вызов отозвалось легкой дрожью восторга. Он постоял, покачиваясь и крепко зажмурившись, и быстро двинулся дальше, пошел наугад, лишь бы идти, стараясь не смотреть по сторонам, – любой дом, каждое окно пялилось на него. Удары колокола учащались, разламывали мозг, и город, как нечто живое, подвижное, окружал и теснил его со всех сторон, обдавал его жарким жадным дыханием. Он уже куда-то, задыхаясь, бежал и, заметив это, насильно заставил себя остановиться, перешел на медленный шаг. Чувство опасности продолжало усиливаться. Кто-то окликнул его, он отступил в сторону, к спасительной стене, и тут же отступил от нее. Ему показалось, что это все тот же ожесточившийся, неотступно преследующий его город, его обманный, коварный зов, ловушка, но перед ним стояли всего лишь две совсем молоденьких девушки, – вдвоем они, очевидно, не боялись. Он извиняюще улыбнулся им, жмущимся друг к другу.
– Я вас напугал? Проходите, проходите, я – добрый…
– Бедненький… что такое с тобой? Пойдем лучше с нами, а? Молчишь? Ты, может, немой? – спросила одна из них, пониже, в приплюснутом беретике, – из-под него влажно сверкали глаза.
– С вами? А куда? – чистосердечно поинтересовался Меньшенин и совсем по-детски поморгал.
– Слушай, добрый наш, прохладно становится, – сказала опять девушка пониже ростом, в беретике. – Пойдем… На две пары чулок у тебя есть? Ну и – баста! – Она почему-то кивнула на подругу, тихо рассмеялась, – слабый жар тронул лицо Меньшенина.
– А куда мы пойдем, все-таки? – спросил он, начиная догадываться – теперь тихая и робкая надежда затеплилась в нем.
– Недалеко. Десятку еще хозяйке подкинешь и порядок – комната отдельная. Ну…
– Пойдем, – согласился Меныценин. Судьба бросала ему прощальный теплый блик, и он про себя усмехнулся своей готовности.
– А я – Нина, – сказала в беретике приятным низким голосом. – Подружку Зарой зовут, у нее отец не то цыган, не то армянин, сама не знает. Понимаешь, очень застенчивая уродилась. А тебя как?
– Алексей, – ответил Меньшенин, радуясь, что его сразу же приняли за своего, запросто и по свойски, и от этого окончательно обретая недостающую уверенность.
– У нас там выпить есть, правда, совсем немножко, – с детским сожалением сообщила Нина, заботливо подтыкая под беретик выбившуюся прядку. – У нас там все как дома, Алеша, хозяйка ничего нашего не трогает…
– У меня тоже выпить найдется, – сообщил Меньшенин, хлопая себя по карману – в простеньких домашних рассуждениях Нины в беретике было что-то совсем невыносимое, хотелось броситься плашмя на асфальт и светло разрыдаться. – Целая бутылка водки, а вот еще половина… Мы сегодня богатые!
Они, миновав низкую арку, каким-то двором вышли в тихий, темный переулок, словно по дну высокого ущелья прошли вглубь, и Нина в беретике, оглянувшись и приложив палец к губам, прошептала: «Тш-ш-ш!» Она на цыпочках прокралась на крыльцо небольшого, отдельно стоявшего домика, своим ключом открыла дверь и жестом пригласила входить. По деревянной лестнице, замирая от малейшего скрипа, они поднялись наверх – здесь, очевидно, была всего лишь одна квартира, и вскоре все они уже были в небольшой передней, тускло освещенной слабосильной лампочкой под потолком, украшенной картинками из журналов и заставленной какой-то старой, вычурной рухлядью, – Меньшенин увидел пузатый шкаф, вероятно, еще екатерининских времен, со сломанными дверцами. Тотчас что-то скрипнуло, и в переднюю, Меньшенину показалось, что откуда-то из-за пузатого красного шкафа, выскользнула крохотная старушка в чепце и в какой-то совершенно необычайной одежде, в чем то среднем между русской купеческой кофтой и греческим хитоном; у старушки было плоское личико, и уши плоские, и рот плоский, и глаза плоские, и даже остро торчавший маленький носик не разрушал этого впечатления и тоже казался плоским.
, – Проходите, проходите, детки… Ох, как же я рада, – почти неслышно проворковала старушка. – Я уже и не ждала сегодня, спать собиралась…
– Здравствуйте, Ефимия Петровна, – весело и понимающе глядя на нее, ответила Нина в беретике. – У нас выпить есть… Алеша, отдай десятку – у нас такой порядок, – хозяйке плату вперед…
Понимающе кивая, Меньшенин сунулся в один карман, в другой, отыскивая деньги, отдал их Нине в беретике, а та уже вручила хозяйке. Старушка, беззастенчиво и подробно оглядев ночного гостя, привычно улыбнулась ему, – рот у нее приоткрылся и показался один кривой и плоский зуб.
– Забавляйтесь, детки, забавляйтесь, пока молоды, – сказала старушка, скрываясь за своей дверью, но тотчас высунула голову в переднюю и опять улыбнулась Меньшенину. – А водочки я выпью, коли дадите… ах, уважаю! Давно известно, черт в каждую бабу да девку ложку меду кладет, а в силу жить – Богу служить! Так-то, – добавила она с весьма игривым выражением и в лице, и в голосе, и теперь уже окончательно испарилась. Сдерживая легкую дрожь, Меньшенин дурашливо протер глаза, – уж не приснилась ли ему эта жанровая картинка, подумал он, или просто в самый невероятный момент жизнь преподносит ему нечто сокровенное, отчего ему предстоит многое понять? Ведь не может так быть, что все случайно – и худые бледные девочки, и екатерининский шкаф, и плоская старушка со своей глуповатой обещающей улыбочкой, и все случившееся с ним в последние дни, и все еще должное произойти. Все просто, не надо ждать каких-то высоких категорий, чистоты, истины, неподкупности, сама жизнь свидетельствует, что так не бывает, под демагогией велеречивых лозунгов – теплое, все поглощающее болото, и здесь каждый за себя и только за себя, а значит, его ученый шурин прав, необходимы разумные компромиссы и со своей совестью, и со всем этим отвратительным миром ханжества и лицемерия. Иначе нельзя жить, тем более надеяться на победу. А впрочем…
Он не успел додумать свою путаную мысль, – Нина взяла его за руку и с тихим смешком втянула за собой в комнату, соседнюю с хозяйской. Он увидел стол, широкую деревянную кровать в беспорядке, такой же огромный кожаный диван с вензелями на спинке и с продавленным сиденьем. У него взяли бутылки, поставили на стол и вслед за тем Зара хотела снять с него пиджак, – почувствовав у себя на плечах ее теплые, осторожные руки, он перехватил их, осторожно отвел.
– Я сам, – сказал он, стряхивая с себя пиджак, и, оглянувшись, повесил его на торчавший из стены возле двери гвоздь.
– Не бойся, – засмеялась Нина. – У нас честно, никто ничего не тронет.
– Я не боюсь, – заверил Меньшенин, подошел к столу, сел, поправил волосы. Нина принесла стопки, большой стакан, налила водки в него.
– Надо хозяюшке отнести, любит, ой как! Культурная, бывшая мамзель француженка, а любит! – сказала она с улыбкой и, накрыв стакан кусочком хлеба, вышла в коридор; Зара, сидя на диване, неотрывно, как большое и странное насекомое, смотрела на Меньшенина большими влажными глазами. И он услышал, почувствовал, впервые за много лет, благодатную тишину в себе и в то же время, потешаясь над собой же за глупую, не к месту сентиментальность, он слепо улыбнулся девушке, – ему сейчас ничего, кроме тишины и покоя, не хотелось.
Вернулась Нина, оживленно захлопотала вокруг стола.
– Обрадовалась! – сообщила она в какой-то детской просветленности. – Вот уж, говорит, сегодня и не ждала такой благодати, уж как благодарила! Ну, Зара, Алеша, давайте, я огурцов нарезала, хлеб да соль, чем не ресторан? Гуляем! Надо выпить, поздно, гостю выспаться надо, завтра рабочий день.
И у Меньшенина опять сдавило горло, он молча пододвинулся, молча взял стопку и, глядя на девушек блестящими пристальными глазами, чокнулся и проглотил водку. Нина тотчас налила еще – Меньшенин взял стопку, поднял ее.
– За вас, девочки, за то, что вы такие есть, – сказал он. – Рядом с вами хорошо и тепло, я даже не знал… Ах, милые мои, чудесные…
– Пей, пей, пей! – потребовала Нина, и ее детский носик шаловливо сморщился, а Зара, пожалуй, не произнесшая еще ни слова, тоже заулыбалась, отчего стала совсем юной, тихо захлопала в ладоши и тоже потребовала:
– Пей, пей, пей!
Выпив, он потянулся к Заре, и она сочно и с удовольствием поцеловала его в губы.
– А мы тебя сейчас разденем, баиньки-баю… а? – сказала Нина, и у него закружилась голова, у него по-прежнему сохранялось и еще больше усиливалось чувство какой-то чистоты, первичности происходящего, – он только никак не мог взять в толк, что он будет делать сразу с двумя, но и думать особенно было некогда. Его подхватили под руки, подвели к кровати, усадили. Зара, опустившись на колени, сняла с него туфли и носки, а Нина все с той же шаловливой улыбкой развязала ему галстук, расстегнула и сняла рубашку, стащила с него майку и тотчас слегка отступила, затем опустилась рядом с Зарой на колени и осторожно, кончиками пальцев, провела по извилистому бледноватому шраму на груди Меньшенина.
– Ой, страшно-то как! – сказала она шепотом. – Цепочка железная…
– Фронт, – тихо уронил Меньшенин, – просто война, Ниночка, ничего особенного. Мне повезло – живой. А цепочка – тоже память.
Нина, подняв на него застывшие, расширившиеся глаза, помедлив, упала головой на край кровати и расплакалась, нервно и часто вздрагивая узенькими плечиками. Меньшенин опустил ей на спину ладонь, ощущая беспомощность худенького тела.
– Не надо, – попросил он. – Ты так не переживай, ты еще встретишь хорошего человека, будет у тебя семья, нормальная жизнь…
– У меня два брата и папа не вернулись. А мама в эвакуации, под Читой, умерла. – Всхлипывая, Нина маленьким кулачком размазывала по лицу слезы. – У Зары отец тоже на фронте… не вернулся.
Наклонившись, он осторожно поцеловал ее, и Нина, еще раз всхлипнув, сразу успокоилась.
– Вот уж бабье! – сказала она. – Разнюнились!
Она стала расстегивать ремень на брюках у Меньшенина, опять свалилась головой ему в колени и разревелась.
– Нет, – сказала она немного погодя. – Я сегодня, дура такая, совсем одурела. Зара, давай ты, а то я что-то…
– Ничего не надо, – стал горячо уверять Меньшенин, сам глотая неожиданные и сладкие, облегчающие слезы. – Девочки, дорогие! Ах вы, лапушки московские! Я и без того получил все, даже больше, чем надо, – спасибо! Деньги оставлю, – на чулки хватит, на туфли хватит…
Он говорил, охваченный каким-то приступом вдохновения, – Зара, заглянув ему в глаза, тихонько отодвинулась, и лицо у нее потухло, а души коснулся неведомый, первобытный страх.
– Не трогай его, – строго сказала она подруге, окончательно раскисшей. – Не надо его трогать, он сейчас далеко… Не хочу этого! Не хочу! Слышишь, не хочу! Так далеко нельзя! – закричала она и стала срывать с себя одежду, – смугленькая, маленькая, с полудетскими полуокружиями грудей, она была сейчас словно из иного, непонятного и влекущего мира. – Не раскисай! – весело и задорно крикнула она Меньшенину, и в это время Нина, глядя на нее не отрываясь, оторопев, даже полуоткрыла рот. – Я хоть и в Москве, я – цыганка! Знаю, как лечить тоску!
Медленно, завораживающе извиваясь бедрами, всем телом, она стала плавно кружиться по комнате, и, в каком бы положении ни оказывалась, ее глаза, ставшие еще больше, пристальнее, не отрывались от Меньшенина. Из ее тела еще не ушло полудетское звучание, но именно в замедленном ритме танца проступали, как бы переходя одна в другую тихими волнами, юность и зрелость; пожалуй, это не было мольбой или страстью, это было надеждой, чем-то напоминающим предвестие рассвета, приветом восходящему солнцу, когда первый румянец зари уже лег на лицо, – он еще не грел, но уже проникал в самую тайную глубину души…