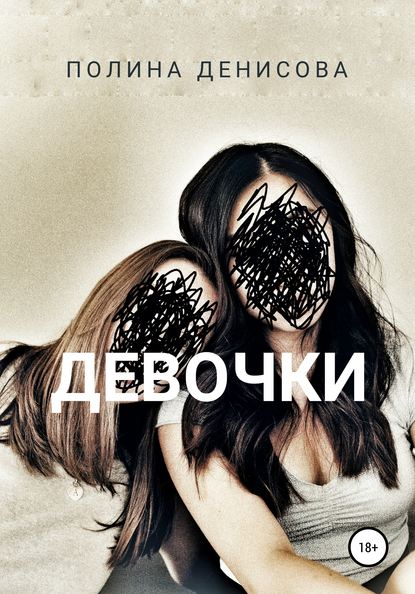Полная версия
Полная версияПолная версия:
Полина Денисова Клуша
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

С самого детства Вероника была медлительной. Всегда последней одевалась на прогулку в детсаду, последней уныло сидела за столом в обед, последней переодевалась в бассейне и на физкультуру – поделать со своей медлительностью она ровным счетом ничего не могла, сколько ни пыталась.
– Клуша ты, – в сердцах говорила ей мать и нетерпеливо наклонялась завязать ей шнурки.– Давай уже, а то до самого вечера провозишься.
Вероника старательно подставляла ноги, но даже и это выходило у нее не так быстро, и шустрая мать нетерпеливо дергала ее за ногу, едва не опрокидывая с ног. – Клуша ты, клуша и есть!
Вероника не обижалась, она никогда не была обидчивой. Мечтательно вышагивая рядом с матерью, она непременно «собирала всю грязь», забродила во все лужи, и лишь беспомощно и неуверенно улыбалась, когда мать грубо, за воротник, вытаскивала ее на дорогу.
Училась Вероника не плохо и не хорошо – особенных успехов, как, впрочем, и провалов у нее не было. Когда кто-нибудь спрашивал ее, какой у нее любимый предмет, она лишь странно и неуверенно улыбалась. После школы поступила на библиотечный факультет в институт культуры, и снова было пять долгих лет без побед и провалов. Ее почти не замечали все эти годы, была она какой-то невзрачной, серенькой, глаза ее буквально размывались за стеклами очков в совсем не модной оправе, а свои длинные, неопределенного цвета волосы она умудрялась укладывать в совершенно «старушечий» пучок. Вероника запомнилась однокурсникам (это были одни девочки) лишь на выпускном, когда пришла на торжественную церемонию вручения дипломов в совершенно безумной широкополой шляпе и с букетом дешевых цветов. «Нет, ты глянь только на эту клушу! Ну, и вырядилась!», – смеялись злобные завтрашние библиотекарши, поправляя безупречные прически и оглаживая свои коротенькие юбочки.
Свою шляпу Вероника купила как раз накануне, по случаю отъезда в Анапу, который намечался на другой день после получения диплома. На поездке настояла мама, отчаявшись вытолкать свою домоседку дочь из дома.
– Двадцать три года, а она все сидит, как клуша, дома! – разорялась мать с периодичностью раз в неделю, чаще всего по пятницам. – Другие вон на дискотеки, в рестораны ходят, замуж уже повыходили, детей вон рожают, а она все сидит. И на что мне такое наказание!
Вероника лишь привычно рассеянно улыбалась, а иногда вставала с дивана в своей комнате, где она обычно лежала с книжкой, подходила к матери и приласкивалась – как в детстве обнимала ее за шею и прижималась щекой к жестким материнским волосам. Когда-то блестяще-черные, волосы матери теперь потускнели и посерели, но сохранили все тот же запах – родной, любимый с детства запах шампуня и легкий душок простокваши, которой мать по деревенской привычке всегда смазывала голову перед помывкой.
– Ладно, уж, не подлизывайся, – сдавалась мать и вздыхала, но от вероникиных объятий не уворачивалась.
На другой день после выпускного Вероника уже стояла на перроне с нелепым стареньким чемоданом, с которым когда-то приехала в город из деревни ее мать. В той же широкополой шляпе, новой ситцевой юбке в горошек, нарядной белой блузке и новеньких, только из магазина белых босоножках на маленьком изящном каблучке, она была одновременно хорошенькой и удивительно немодной. Вокруг на перроне шумели и суетились такие же, как и она, курортники, поджидающие анапский поезд – девушки в ярких топах с открытыми животами и сверкающими в молодых пупках камешками, молодые люди в кожаных шлепанцах и модных солнечных очках.
Она вернулась через двадцать два дня, все с той же блуждающей улыбкой на лице, и на нетерпеливые расспросы матери «ну, что?», «ну, как?» отвечала довольно невнятно. Да, море теплое, нет, вода не грязная. Да, дом отдыха прекрасный, соседка по комнате замечательная. Да, ей все понравилось. Так и не вытянув из Вероники никаких подробностей, мать в сердцах махнула рукой:
– Клуша ты!
А через пять месяцев, когда Вероника уже работала в библиотеке, она вдруг призналась матери, что беременна. Мать в немом изумлении уставилась на ее начавший раздуваться живот:
– Шутишь?
Но Вероника не шутила, и на громкие вопли матери терпеливо объяснила, что отец ребенка приехал откуда-то с Севера, встретились они в Анапе, виделись всего три раза, фамилии его она не знает, и адреса его у нее нет. Напрасно мать пыталась выпытать у нее хоть что-то криком – Вероника была непробиваема. Она сидела над чашкой чая, привычно рассеянно смотрела словно бы сквозь стену и немного встрепенулась лишь тогда, когда мать заикнулась об аборте.
– Нет-нет, что ты, мама, никакого аборта я делать не стану, – тихо пролепетала она.
Мать спорить не стала, ушла к себе и долго не могла в тот вечер уснуть – все ворочалась на кровати, шлепала по коридору на кухню, шумела водой в туалете. Не спала и Вероника, и никто не ведал, что творилось тогда в ее голове – тревожилась ли за будущего ребенка, которому от рождения было уготовано быть безотцовщиной, проклинала ли свою глупость, или, напротив, радовалась предстоящим переменам.
В положенный срок она хоть и не совсем легко, но все же без осложнений родила здоровенького мальчишечку, который потянул почти на четыре кило. Ее встречала из роддома мать – с симпатично упакованным в нарядную коробку тортиком для персонала, с новенькой велюровой коляской с немного скрипучими колесами и мягкими ремешками. Новорожденный проспал всю дорогу до дома.
Говорили мало, мать лишь время от времени шмыгала носом, а когда пришли домой и занесли на третий этаж коляску, она вдруг и совсем разревелась.
Вероника неловко успокаивала мать, но глаза ее были сухими.
Мальчика назвали Артемом. Он рос веселым и живым парнишкой, и иногда, глядя на белесую голову внука, мать Вероники с ужасом думала, что это она говорила когда-то об аборте. При таких мыслях ей, неверующей, всегда хотелось перекреститься.
Артем рос не в мать – никакой мечтательности в нем не было совсем, напротив, был он мальчиком очень живым, быстрым и любознательным. После школы легко поступил в столичный политех, и хоть и не легко, но все же уехал от плачущей бабушки и поникшей Вероники. На зимних каникулах приехал домой с новой, полной подарков стильной сумкой, и в следующий раз его ждали только летом. Увы, Артем приехал уже в марте – хоронить бабушку.
Все случилось настолько же быстро, насколько и больно – инфаркт.
Похороны Вероника запомнила смутно – помнила дождь на кладбище, голосистый плач соседки и слезы Артема, который, как когда-то в детстве держал ее за руку.
А потом были долгие библиотечные дни, тусклые вечера с выключенным телевизором (в отличие от мамы, Вероника предпочитала читать) и субботние походы на рынок.
Она взяла тогда собаку – нашла возле стройки маленького беспородного рыжего щенка, но через два месяца он умер от чумки. Именно тогда, закопав Дружка под раскидистым кедром в парке, она и решила поехать в отпуск.
И вот ровно через двадцать лет Вероника снова стояла на перроне со стареньким чемоданом, в немодных босоножках и нелепой широкополой шляпе на голове. Вокруг снова суетились завтрашние курортники, катили яркие чемоданы на колесиках и громко смеялись, заигрывая с угрюмыми проводницами. В сумочке, которую рассеянная Вероника как всегда забыла закрыть, лежала путевка в пансионат города Анапы.
Анапа дохнула жаром прямо на перроне, и Вероника с удовольствием подставила лицо и шею теплому южному зною.
Утром, сидя в общей столовой, она рассеянно ковыряла вилкой в тарелке и увлеченно смотрела в окно. В не слишком чистое стекло она видела аккуратно подстриженную лужайку, а за ней – милый небольшой парк со словно бы карликовыми пальмами. Дорожка из парка вела прямиком на пляж. Там, волнующее, теплое и приветливое, накатывало на берег Черное море. Вероника почти слышала, как оно шумит, почти чувствовала его запах и была почти счастлива. Она опомнилась, когда говорливая соседка по столу уже в третий раз спросила ее, откуда она приехала. Рассеянно и вежливо улыбнувшись, Вероника промямлила название своего города и поспешила из-за стола. По дороге она неловко запнулась за колесо тележки официантки и под ненавидящим взглядом той неловко подняла с пола пару упавших вилок.
Вероника просидела на пляже до самого вечера – позабыв взять с собой купальник, она поленилась вернуться, а потому расположилась под тенью незнакомого ей южного, раскидистого дерева, привалившись к его гладкому стволу. В широкополой шляпе и длинном сарафане с нарисованными дельфинами, она чувствовала себя удивительно на месте, словно еще вчера не стояла она на перроне с чемоданом, близоруко оглядываясь в поисках автобусной остановки. На нее буквально налетели тогда таксисты, хватая под руки и выхватывая из рук чемодан, но Вероника лишь беспомощно мотала головой, даже не пытаясь вырваться из цепких лап южного курортного бизнеса. Таксисты отстали от нее внезапно, словно бы осознав, что не удастся заработать на этой сумасшедшей, у которой и денег-то, наверное, нет.
На пляже было людно – сезон был в самом разгаре, и между ковриками и подстилками едва ли можно было пройти, не наступив на чужие вещи. Кричали и плескались на мелководье золотисто-загорелые дети, пили теплое пиво их расслабленные родители, гуляли по кромке воды красавицы в немыслимо невесомых бикини, а за ними пристально наблюдали из кафе выше на набережной местные мачо с орлиными профилями.
Неизвестно, вспоминала ли Вероника свой прошлый приезд в Анапу, а если и вспоминала, то на ее лице, надежно прикрытом старомодными солнечными очками, это никак не читалось.
Она осмелилась дойти до воды лишь ближе к вечеру, когда самые жадные до солнца загоральщики уже разошлись ждать завтрашнего утреннего солнца и пить на верандах частного сектора молодое местное вино. Аккуратно сняв с ног шлепанцы-вьетнамки, Вероника по-девичьи подтянула подол длинного сарафана и медленно зашла в воду. Постояла нерешительно несколько секунд, а уже в следующий момент решительно направилась к своему корпусу – за купальником.
Наскоро поужинав, она облачилась в свой новенький цельный купальник, накинула такой же новенький, в тон ему халатик и снова прошла по дорожке к пляжу. Вероника торопливо сбросила халатик у самой воды и стыдливо, стараясь не встретиться ни с кем взглядом, зашла в воду, с облегчением погрузившись по самое горло.
Вода оказалась ласковой, и Вероника, изредка поглядывая на кучку оставленных на берегу вещей, все нежилась на небольших, едва заметных волнах, пока не «пересидела» всех.
Когда последние отдыхающие ушли, закатное солнце напоследок осветило оранжевым светом дневной пляжный мусор и быстро и безоговорочно плюхнулось в воду. Скоро стало совсем темно, лишь одинокий фонарь выхватывал кружок песка из темноты опустевшего пляжа. Где-то недалеко заиграла музыка, еще дальше – другая. Вдалеке по берегу загорелось несколько костров, а скоро потянуло и манящим запахом шашлыка.
Наконец, когда даже прогретая за день вода стала казаться прохладной, Вероника, напоследок тяжело плюхнув, медленно пошла к берегу.
Она наступила на что-то, когда до берега уже оставалось не больше пары метров, и, остановившись, вдруг испуганно поняла, что там, под небольшой толщей темной воды, лежит человек.
Нагнувшись, Вероника нащупала руку, а уже в следующее мгновение она тащила эту руку к берегу изо всех сил. С каждым шагом он казался все тяжелее, и Вероника поймала себя на том, что совсем не хочет знать, кого она тащит из воды. Силы у нее словно бы удесятерились, и позднее она никак не могла понять, как удалось ей вытащить на берег почти стокилограммового обмякшего мужика, который, казалось, делал все, чтобы остаться в воде. Хотя на самом деле, конечно же, ничего он не делал, а лишь лежал на песке нелепой грудой, темный, мокрый и недвижимый.
Вероника тем временем уже перевернула его, тяжеленного, и вдруг одним сильным рывком затянула на свое подставленное колено. Она действовала быстро и четко, чего, возможно, с ней никогда еще не случалось за всю ее жизнь.
Утопленник тем временем безжизненно свисал головой вниз, и Вероника из всех сил начала ритмично надавливать ему на спину. Со страшным звуком, сипеньем и присвистом из него хлынула вода. Вероника не останавливалась. Позднее она пыталась вспомнить, откуда были у нее эти знания, откуда она так точно и четко знала, что именно нужно делать, но так ничего и не припомнила. Возможно, на задворках сознания всплыл курс гражданской обороны, который она проходила на первом курсе института, возможно, она видела что-то подобное в одной из книг на работе – точно сказать она не могла.
В какой-то момент мужик начал сильно кашлять, сипло заглатывая ртом воздух. Он все еще вялой тушей свисал в вероникиного колена, но руки его вдруг начали лихорадочно царапать песок.
Она тяжело перевалила его на песок только тогда, когда он хоть и не ритмично, но все же шумно задышал. И только тогда, ойкнув от боли в ноге, она неуклюже поднялась и глупо, тоненьким голоском, не слишком требовательно произнесла:
– Помогите!
Вокруг стояла темнота. Одинокий фонарь по-прежнему освещал мутный кружок песка, из кафе доносилась музыка.
– Помогите! – все также неуверенно и тоненько прокричала Вероника.
Она кое-как усадила мужика, подпирая своими коленями его огромную спину.
– Посидите пока тут, я сбегаю, телефон найду.
В ответ мужик грязно выматерился. Он обхватил большими ручищами с налипшим песком свою голову и начал раскачиваться взад и вперед, время от времени снова матерясь. На Веронику он не обращал внимания. Убедившись, что он не завалится назад, она обошла его и заглянула в лицо:
– Вы как, в порядке?
Он трубно отрыгнул ей в лицо. В нос ударил густой запах перегара, и Вероника поняла, что воскресший сильно пьян.
– Вы посидите, посидите, – повторила она и тяжело побежала по песку туда, где должны были быть люди.
«Скорая» приехала быстро, и веселый молодой врач с интересом выслушал вероникин рассказ. Он не скрывал своего удивления и все поглядывал в сторону утопленника, который так и продолжал раскачиваться, сидя на песке, матерясь все громче и громче. Напоследок доктор взял вероникины координаты – имя и название дома отдыха.
В тот вечер она долго не могла уснуть, а утром не давало спать настойчивое южное солнце, и Вероника уже в восемь снова была на пляже, прихватив по дороге из столовой пару свежих, еще теплых плюшек. На этот раз она собралась как следует – взяла купальник и полотенце, и даже на всякий случай положила в сумку резиновую шапочку, хотя не была уверена, наденет ли.
Две недели пролетели незаметно. Вероника много купалась, по вечерам стала выходить гулять в город. Вскоре она уже здоровалась с шашлычником в одной из кафешек на берегу – молодым кавказцем, который жарил вкуснейшее, сочное мясо, аромат которого никак не мог сравниться с унылым ужином в казенной столовой.
«Утопленник» появился в один из самых жарких дней, Вероника как раз шла к себе, переждать отчаянное дневное солнце. Едва она зашла в вестибюль, как администраторша с дежурной улыбкой поднялась за своей стойкой:
– А вас тут дожидаются!
Вероника не сразу узнала его, грузного немолодого мужчину, поднявшегося ей навстречу с дивана под искусственной пальмой.
– Привет, спасительница! Узнаешь? – громко, совсем не стесняясь администраторши, проговорил он.
Теперь Вероника узнала его, особенно голос. Он оказался не таким крупным, каким казался тогда ночью на пляже, на вид ему было лет сорок пять. От него густо пахло парфюмом, был он чисто выбрит, и явно хотел произвести на Веронику хорошее впечатление. От неожиданности ситуации Вероника оробела, тихонько пробормотала нечто вроде приветствия и упорно смотрела в сторону, туда, где был спасительный лифт.
– Анатолий, – протянул руку «утопленник», сгреб огромной лапой вероникину ладошку и ощутимо тряхнул ее.
– А ты чего такая? – спросил ее вдруг, приглядываясь. – Как неродная, ей богу!
Вероника вежливо улыбалась и мучительно пыталась найти возможность уйти. Сделать это оказалось непросто.
– Ну что, пойдем в кафе посидим? – предложил тем временем Анатолий, которого нисколько не смущало вероникино молчание.
В кафе было людно, громко играла музыка, и Вероника этому даже обрадовалась – оставаться один на один с Анатолием ей не хотелось. А он тем временем по-деловому заказывал шашлык, потирал руки при виде запотевшего графинчика с холодной водкой, суетливо разливал по рюмкам. От водки Вероника отказалась, хоть было это и не очень легко – сначала Анатолий шутливо настаивал, а в какой-то момент даже начал активно упрашивать. Но Вероника смущенно улыбалась, молчала, и к водке все же не прикоснулась, и он, тяжело вздохнув, опрокинул ее рюмку в свой широко открытый рот.
После кафе вместе отправились на пляж, и, хотя Веронике совсем не хотелось его компании, отказать она все же не смогла. Через полчаса он уже громко спал возле нее под тентом, широко раскинув руки. Вероника незаметно, поверх книжной страницы, рассматривала своего спутника – был он в ее понимании совершенно некрасив, и дело было вовсе не в крупных чертах лица и даже не в огромном волосатом животе, нависавшем над резинкой слишком тесных купальных плавок. От него густо несло перегаром, когда он, тяжело всхрапывая, безвольно распускал большие лиловые губы.
Проснувшись часа через три, он не сразу сообразил, где и с кем находится, а, сообразив, быстро взял себя в руки и коротко приветствовал Веронику:
– Ты еще здесь, спасительница?
Она неловко кивнула и суетливо начала укладывать вещи в пляжную сумку. Анатолий неохотно проводил ее до санатория, уже на дорожке в санаторском парке коротко бросил:
– Вечером зайду, посидим, пообщаемся.
Он пришел около девяти, с мутной пластиковой бутылкой вина, сладкими булочками в несвежем пакете и двумя поникшими розами на коротеньких стеблях. Веронике было неловко в присутствии этого чужого мужчины, она пристраивала цветы в воду, накрывала на стол незатейливое угощение и украдкой поглядывала на часы. Но Анатолий пришел надолго и уходить рано явно не собирался. Когда в какой-то момент он придвинул свой стул поближе к вероникиному и положил руку на ее плечо, он был уже изрядно пьян.
– Не надо, – Вероника мягко высвободилась и попробовала встать. Но Анатолий резко дернул ее за руку, так, что она потеряла равновесие и тяжело плюхнулась на стул.
– Ты недотрогу-то из себя не корчи, – Анатолий тяжелым взглядом сверлил ее платье в районе колен. – Я ж нормально к тебе пришел, выпивку-закуску-цветы принес, все как надо… Сидим хорошо, культурно… Чего ты как нормальная баба-то не можешь?
– Я.. мне… вам, Анатолий, уже пора, извините, – Вероника сильно покраснела и растерянно смотрела на свои руки, прижатые к коленям.
– Да чего ты там бережешь-то? – Анатолий вдруг резко дернул подол платья вверх, оголив вероникины ляжки. – Чего там у тебя такое особенное, а?
– Перестаньте! – пролепетала Вероника. Она снова попыталась встать, но Анатолий снова ей не позволил. Он вдруг резко схватил ее за ворот платья и сильно рванул, оторвав вместе с пуговками и одну бретельку бюстгальтера.
– Вот видишь, – он принялся яростно шарить рукой по оголившейся груди, – Нормальная баба, все у тебя на месте, и чего выделываешься?
Вероника пыталась вырваться, но Анатолий крепко держал обе ее руки одной своей огромной лапой. Он довольно легко стащил ее, упирающуюся, со стула, доволок до кровати и навалился на нее всей своей тяжелой тушей.
– Перестаньте, – все повторяла Вероника, а он тем временем рвал на ней трусы.
Все кончилось очень быстро, по сути, не успев и начаться. Анатолий вдруг застыл, слегка отодвинулся от Вероники и с деловым видом пощупал себя между ног.
– Бл..ь, ну что ты за баба-то? Ни приласкать мужика не можешь, ни дать по-нормальному.
Он злобно откинулся на вероникиной кровати и нашарил в кармане сигареты. Вероника, прикрывая руками грудь, побежала в ванную. Закрывшись, она какое–то время стояла прислонившись спиной к двери. Она слышала, как Анатолий шумно бродит по номеру, кашляет и громко шмыгает носом. Потом послышался звук упавшего стула, Анатолий громко выматерился. Вероника все стояла, глаза ее были сухими, руки рассеянно теребили разодранный ворот платья. Она осталась стоять в ванной, даже когда громко хлопнула входная дверь.
То, что в ее сумке не оказалось кошелька, Вероника заметила лишь через день, когда хотела заплатить за полюбившийся шашлык. Смешавшись, она уронила сумку на пол, потом неловко ползала под ближайшим столиком, дотягиваясь до укатившегося камешка-талисмана. Кошелька не оказалось и дома, Вероника добросовестно перевернула вверх дном весь номер.
Через день она снова стояла на перроне. Отпуск пришлось прервать на неделю раньше по причине вполне понятной – денег кроме тех, что были в кошельке, у нее попросту не было, как и не было в целом свете места, куда она могла бы позвонить. Конечно же, о том, чтобы звонить Артему, речи не шло. С билетом повезло – разницы между стоимостью купе и плацкарты как раз хватило на то, чтобы сдать билет и купить новый.
Два дня в поезде были голодными и сонными – Вероника просыпалась только на больших остановках, и соседи по четырехместному закутку плацкартного вагона лишь недоуменно переглядывались, многозначительно показывая глазами в сторону этой молчаливо лежащей женщины, и пожимая плечами.
Она заплакала лишь однажды, когда отставший от расписания поезд долго стоял на безлюдном ночном перегоне. Где-то на станции переговаривались на только им ведомом языке диспетчеры, теплый воздух за окном был наполнен смесью пряных полевых трав и бензина, двое смельчаков-курильщиков выпрыгнули из вагона под недовольное ворчание заспанной проводницы и тихо переговаривались под окном. Она поплакала тихо, старательно вытирая слезы концом грубой казенной простыни, а на утро уже стояла в тамбуре со своим стареньким чемоданом.
Телефон Вероника включила лишь через неделю, чтобы услышать веселый и далекий голос Артема. По своей давней привычке, разговаривая по телефону, она часто кивала головой, словно собеседник мог ее видеть.
В оформлении обложки использована фотография с https://www.pexels.com/ru по лицензии CC0.