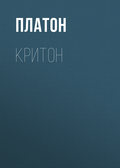Платон
Диалоги с Сократом. С комментариями и объяснениями
8
Такую речь произнес Федр. После Федра говорились и другие речи, но я их не очень-то запомнил. Опустив эти речи, я изложу речь Павсания.
Павсаний сказал: «Мне кажется, Федр, твоя речь задумана неудачно – ты просто предложил нам прославлять Эрота. Конечно, если бы существовал один Эрот, это подходило бы; но ведь Эротов-то не один; и так как он не один, то правильнее наперед объявить, какого Эрота должно восхвалять. Я попытаюсь поправить дело и указать сначала, какого Эрота должно восхвалять, а затем восхвалить его, как он того достоин.
Всем известно, что Афродиты без Эрота не бывает. Если бы Афродита была одна, один был бы и Эрот. Но так как Афродит две, то должны быть и два Эрота. А богинь-то разве не две? Одна – старшая, матери не имеющая, дочь Урана; ее мы и называем Уранией (Небесной). Другая – младшая, дочь Зевса и Дионы; ее мы называем Пандемос (Всенародной). Отсюда неизбежно следует: того Эрота, который содействует второй Афродите, правильно называть Всенародным, а другого Небесным. Восхвалять должно, конечно, всяких богов; но следует попытаться сказать и о том, что каждому из обоих Эротов досталось в удел.
Древнегреческие мифологические традиции и теогонии (истории происхождения богов) различались в зависимости от полиса и региона. Именно поэтому в трудах античных авторов можно найти нескольких божеств с одним и тем же именем, но с различной родословной. Павсаний использует это противоречие, чтобы обосновать генеалогию уже в отвлеченном философском смысле: не родовые отношения, а отношения видовых и родовых понятий.

Свойство всякого деяния состоит в том, что оно, будучи совершаемо, само по себе ни прекрасно, ни постыдно. Например, то, что мы теперь делаем – пьем, поем, разговариваем, – все это само по себе не заключает ничего прекрасного; но оно становится таковым в действии, именно как оно будет совершаться: если совершается оно прекрасно и правильно, то становится прекрасным, если неправильно – постыдным. То же самое и с понятием “любовь”. Не всякий Эрот прекрасен и достоин восхваления, но только тот, кто прекрасно направляет к любви». (…)
Действие («праксис») здесь противопоставляется поэзии («пойесис») – если для поэта любое действие прекрасного лица прекрасно, потому что творчество украшает все то, к чему прикасается, то для философа даже самое прекрасное лицо может совершить дурное действие, тем самым выдав в себе безобразную сторону. Поэтому поэты приукрашивают, а философы видят все как есть, следя за разными «практиками» и разоблачая всеядность развратников.
Противопоставление любви благородных людей и любви тиранов, ведущей к насилию над любимыми. Насилие («гюбрис») – здесь дерзкое желание встать вровень с богами и позволять себе то, что могут позволить себе лишь боги (например, Зевс со своей любвеобильностью). Почтенная умеренность в любви спасает человека и от этой дерзости, и от крушений, которыми грозит такая гордыня.
10
«Нужно обратить внимание на следующее: любовь явная, говорят у нас, лучше любви тайной, преимущественно же любовь к самым благородным и лучшим, даже если они и безобразны в сравнении с другими. В свою очередь и любящий встречает достойное удивления одобрение со стороны всех, как человек, не совершающий что-либо постыдное; если он добился успеха, это считается прекрасным, не добился успеха – постыдным. Далее, закон предоставляет возможность поклоннику, если он совершает достойное удивления дело, стремиться добиться себе успеха и тем самым снискать похвалу. Кто осмелится поступать иначе, преследуя какие-нибудь иные цели и желая добиться чего-либо помимо этого, навлекает на себя великое поношение. Например, если бы он пожелал получить от кого-нибудь деньги, или добиться должности, или приобрести себе какое иное могущество, и стал поступать так, как поступают поклонники по отношению к предмету своей любви – умолять их, валяться у них с просьбами в ногах, произносить клятвы, лежать у дверей, идти на такое рабство, на какое не согласится ни один раб, тогда предпринимать все эти действия ему воспрепятствовали бы и друзья и недруги; последние стали бы поносить его за лесть и низость, а первые начали бы вразумлять его и стыдились бы самих себя. Напротив, если поступает так любящий, он встречает еще и расположение; да и закон предоставляет ему, без всякого поношения, делать все это, считаясь с тем, что он добивается исполнить дело самое прекрасное. Самое же главное, как утверждает, по крайней мере, большинство, состоит в том, что, если любящий даст клятву, а затем нарушит ее, только ему одному бывает прощение от богов: боги говорят, что любовной клятвы нет.
В этом отрывке обыгрывается тема, часто встречающаяся как среди учеников Парменида, так и в кругу софистов: относительность понятия красоты. Самая прекрасная обезьяна безобразна в сравнении с самым уродливым человеком; самый прекрасный человек уродлив в сравнении с самым младшим богом. Только здесь этот тезис ставится на службу идеализированной любви. Также появляется понятие о друге как о «другом я»: если друг совершает что-то постыдное, то стыдно мне. В наши дни это часто называют «испанский стыд». Также заявлен тезис, что любящий ведет себя как безумный, соединяя притязания и самоуничижения самым нелепым образом – это предположение во многом определит облик всей западной культуры любви.
Таким образом, и боги, и люди предоставляют всяческую возможность [добиваться успеха] любящему, как гласит здешний закон – в этом государстве всякий может считать, что и любить, и быть в дружбе со своими поклонниками признается весьма прекрасным. Если же отцы, приставив дядек к тем, кто любим, не позволяют последним разговаривать с их поклонниками, и дядьке даются на этот счет надлежащие приказания; если сверстники и приятели поносят любимого, заметив за ним что-либо подобное, а старшие не препятствуют им поносить его и не бранят их, как поступающих неправильно, – если присмотреться к этому, то, в свою очередь, можно подумать, что такое поведение признается здесь очень постыдным. А, на мой взгляд, дело обстоит так: было сказано в начале, что всякое деяние само по себе не просто прекрасно и не просто постыдно, но оно, если прекрасно совершается, то прекрасно, если постыдно, – постыдно. Таким образом, угождать дурному и дурно – постыдно, угождать хорошему и прекрасно – прекрасно. А тот поклонник, “всенародный”, любящий более тело, чем душу, дурен; да он и непостоянен, так как предмет его любви непостоянен. Когда тело, которое он любил, перестанет цвести, он “улетает”, осрамив все свои речи и обещания. А поклонник добронравственный остается на всю жизнь, так как он “сплавился” с чем-то постоянным. Таких поклонников наш [неписаный] закон подвергает хорошему и прекрасному испытанию и повелевает одним из них угождать, других – решительно избегать. Поэтому закон побуждает к одним настойчиво стремиться, других уклоняться, причем он устраивает состязания и испытания, смотря по тому, к какому сорту людей относится любящий и любимый. В силу всего этого признается постыдным, прежде всего, быстро сдаваться; требуется время, в течение которого можно было бы произвести надлежащее и многообразное испытание; далее, признается постыдным поддаваться деньгам и политическому влиянию, хотя бы подвергающийся злоключениям и струсил и не выдержал, а получающий благодеяния и не относился с презрением к деньгам или политической деятельности. Ибо ни то, ни другое не считается надежным и постоянным – разве только то, что ни от того, ни от другого не рождается благородной дружбы. Итак, для нашего закона остается один путь, коль скоро предмет любви хочет прекрасно угождать поклоннику. Наш закон гласит: подобно тому, как для поклонников какое бы то ни было добровольное рабство пред предметом их любви не является лестью и не ведет к поношению, так же точно не вызывает поношения в применении к другой стороне единственно только одно добровольное рабство. А это рабство имеет в виду добродетель». (…)
Далее Павсаний говорит о «гуманности» настоящей любви – так переведено ключевое понятие античной педагогики «пайдейя», которое может означать культуру, воспитание, соответствие нравственному идеалу, а также внутреннюю самодисциплину и чувственное развитие, отличающее грека от варвара, воспитанного человека от грубого. Пайдейя проявляется прежде всего в разборчивости, тонкости в отношениях с людьми и вещами, умении снисходить в сложных случаях, в отличие от невоспитанности, которая груба и злобна. В его речи появляется общий субъект нравственного суждения: прекрасно (правильно, нравственно) не то, что кажется таким твоему другу, знакомому или родственнику, но то, о чем каждый вынесет нравственное суждение, исходя из уместности. По сути, здесь и рождается будущее представление о «здравом смысле». Дальше в диалог вступает врач Эриксимах.
12
Эриксимах сказал: «Мне кажется, ввиду того, что Павсаний, прекрасно приступив к своей речи, неладно закончил ее, необходимо мне попытаться присоединить к ней конец. То, что Эрот двойственен, это, на мой взгляд, разграничено прекрасно. Но Эрот существует не только в человеческих душах, в их стремлении к прекрасному, он существует также и во всем прочем, в его стремлении ко многому иному: в телах всех животных, в растениях, короче сказать, во всем сущем. Из медицины, нашего искусства, полагаю я, следует заключать, насколько этот бог велик и достоин удивления, насколько он имеет отношение ко всему, в делах и человеческих и божеских.
Я начну свою речь, отправляясь от врачебного искусства, чтобы тем самым почтить и последнее. В самом деле, природа тела содержит в себе этого двойственного Эрота: здоровые и больные элементы тела, по общему признанию, различны и несходны, несходное же тяготеет к несходному и любит его. Итак, одна любовь бывает при здоровом теле, другая – при болезненном. Подобно тому, как на это только что указывал Павсаний, угождать хорошим людям прекрасно, распущенным – постыдно, так и в самом теле угождать хорошим и здоровым элементам прекрасно и следует это делать – это и есть то, что называется медициною, – дурным же элементам тела и болезненным угождать постыдно, и должно их не баловать, если хочешь быть врачом-практиком.
Неладно закончил – ограничился строгими софистико-риторическими противопоставлениями, но не сделал философского вывода о природе Эрота. То, что «ладно» для ритора, хорошая структурированность речи, не всегда «ладно» для философа. Эриксимах отстаивает тезис, лежащий в основе аллопатической медицины: чтобы вылечить, надо противопоставить болезни некоторое вещество, меньше всего похожее на вещество болезни. Поэтому он иронически уравнивает софиста и врача-практика, мыслящего такими же примитивными противопоставлениями. Как философ и теоретик, Эриксимах смотрит на практиков свысока.
Медицина, говоря вообще, есть наука о любовных элементах, свойственных телу, поскольку они имеют отношение к наполнению и опорожнению его. Тот, кто распознаéт в этих элементах прекрасную и постыдную любовь, есть врач в превосходной степени. Тот, кто умеет перемещать и устраивать так, чтобы вместо одной любви человек приобретал другую, или чтобы, у кого нет любви, она зарождалась, или удалять любовь, уже существующую в человеке, – тот будет хорошим мастером своего дела. Действительно, нужно уметь самые враждебные элементы в теле сделать дружественными и заставить их полюбить друг друга [а это умеет только врач-философ, а не врач-практик]. А самыми враждебными элементами являются элементы самые противоположные, например: холодное и теплое, горькое и сладкое, сухое и влажное, и тому подобное. Умевший вселить в эти элементы любовь и согласие, предок наш, Акслепий, как утверждают вот эти поэты и как я в этом убежден сам, и создал наше искусство. Таким образом, вся медицина, как я утверждаю, управляется этим богом, равно как и гимнастика и земледелие.
Асклепий – мифологический создатель искусства медицины, почитавшийся как бог греками и римлянами. К нему как предку возводили себя асклепиады – династия врачей, лечивших по заветам своего прародителя. Дается ироническое замечание-преувеличение: всю гимнастику надо подчинить заботе о здоровье, отрешив от перспектив политической карьеры учащихся, а все земледелие – выращиванию лекарственных растений, отрешив от реальной экономики.
Что касается музыки, то она – всякому понятно, кто обратит на это хотя бы немного внимания, – обладает теми же свойствами, что и упомянутое искусство. Может быть, это хотел высказать и Гераклит, хотя на этот счет он выражается неясно. “Единое, – говорит он, – расходясь, согласуется само с собою, подобно тому, как гармония у лука и лиры”. Очень глупо думать, будто Гераклит утверждает, что гармония “расходится” или что даже она состоит из расходящихся элементов. Может быть, Гераклит хотел сказать: гармония создалась из расходящихся сначала высоких и низких тонов, пришедших затем, впоследствии, в согласие благодаря музыкальному искусству. Само собою разумеется, из расходящихся высоких и низких тонов гармония создаться не может, так как гармония – созвучие, а созвучие – своего рода согласие. Согласие же не может получиться из расходящихся элементов, до той поры, пока они расходятся. В свою очередь, расходящееся и не приходящее в согласие невозможно привести в гармонию. Точно так же и ритм получается из быстрого и медленного темпов, которые сначала расходились, а потом пришли в согласие. Согласие всему этому, подобно тому, как ранее это было с медициною, доставляет музыка, влагая в противоположные элементы взаимную любовь и единомыслие.
Приведен знаменитый тезис философа Гераклита Эфесского о единстве противоположностей, лежащий в основе позднейшей диалектики Сократа, Платона и Аристотеля. Эриксимах порицает Гераклита за то, что он смешивал природу и искусство. Греческое слово «ритм» означало не столько «повторяющуюся схему звуков», сколько «поток», где звук то ускоряется, то замедляется. Правильнее было бы переводить «ритм» как «поток». В этом значении слово использовал русский писатель и поэт Андрей Белый, противопоставлявший в стихах «метр», как повторяющуюся схему, «ритму», как свободному отступлению от метра, для внесения разнообразия в мелодию стиха.
С этой точки зрения и музыка является наукою об элементах любви, относящихся к области гармонии и ритма.
В сопоставлении гармонии и ритма вовсе не трудно различить присущие им элементы любви; да и двойственной любви там вовсе нет. Но когда приходится применять ритм и гармонию к людям, или создавать то, что называется строением ладов, или правильно применять созданные уже лады и размеры, что в круге знания носит также свое имя, тогда эта задача трудная и требует искусного мастера. И здесь мы встречаемся с тем же принципом, что и ранее: людям благопристойным и тем, которые, не будучи еще ими, должны совершенствоваться в благопристойности, следует угождать и беречь их любовь. Это Эрот прекрасный, Небесный, сын Музы Небесной. Сына же Полигимнии, Всенародного Эрота, должно допускать к тем, к кому он допущен будет, с осторожностью, чтобы наслаждением, им доставляемым, воспользоваться, но чтобы от этого не вышло никакой разнузданности. Точно так же и в нашем искусстве серьезное дело – умело пользоваться наслаждениями, доставляемыми поварским искусством, чтобы получить от них удовольствие, не влекущее заболевания. Таким образом, в музыке, в медицине и во всем прочем, касающемся дел и человеческих и божеских, следует, насколько возможно, наблюдать за тем и за другим Эротом, так как они оба там присутствуют». (…)
Искусного мастера – т. е. композитора, а не исполнителя вариаций, не импровизатора. Композитор похож на философа, а импровизатор-исполнитель – на софиста.
Полигимния – муза торжественных гимнов, а также сельского хозяйства и пантомимы. Эриксимах, получается, отождествляет Афродиту Всенародную с Полигимнией, тем самым критикуя эмоциональность и легковерие толпы, как бы мы сказали, «массовую культуру». Далее Эриксимах говорит, что Эрот действует и в природе, потому может стать предметом изучения многих наук, в том числе астрономии (а также метеорологии – обе науки стал различать только Аристотель).
14
Сказал Аристофан: «Ты прав, Эриксимах; я имею в виду говорить совсем в ином духе, чем говорили ты и Павсаний. Мне сдается, люди совершенно не понимают мощи Эрота, так как, если бы они ее понимали, они соорудили бы ему огромные святилища и алтари и приносили бы величайшие жертвы; теперь ничего подобного для него не делается, тогда как следовало бы, чтобы это все делалось в превосходной степени. Ведь Эрот – самый человеколюбивый из богов, помощник людей, врачеватель всего того, что после того, как оно подверглось врачеванию, приносит величайшее счастье роду человеческому. Итак, я постараюсь истолковать мощь Эрота, а вы будете учителями всех других.

Но нужно прежде всего осведомиться вам о человеческой природе и о свойственных ей страданиях. Исконная наша природа была не таковою, какою она является теперь, а иною: сначала было три пола людей, а не два, как теперь, – мужской и женский; к ним присоединялся еще третий пол, общий им обоим. От него осталось теперь только имя, сам же он исчез. Тогда существовал еще, в виде особой единицы, андрогин. Этот пол, и по виду и по имени, был общий полу мужскому и женскому; теперь этого пола не существует, имя его употребляется в бранном смысле [обабившийся, женоподобный]. Далее – общий вид каждого человека был округленный: человек имел круглую спину и бока, у него было четыре руки, столько же ног, два лица на округлой шее, совершенно сходные. Голова у обоих лиц, расположенных в противоположную сторону, была одна, ушей было четыре, детородных членов два; все остальное можно представить себе на основании этого. Ходил человек прямо, как и теперь, куда бы ни захотел. А когда он хотел бежать скоро, он несся быстро в кругообразном движении, наподобие кувыркающихся, которые катятся кубарем, держа ноги вверх и опираясь тогда на восемь членов тела. Три упомянутых пола существовали по такой причине: мужской пол был в начале порождением солнца, женский – земли, пол общий мужскому и женскому – луны, так как луна и солнцу, и земле причастна. Таким образом, люди были округлы сами, округла была и их походка, так как они подобны были своим родителям. Имели эти люди страшную крепость и силу, и замыслы у них были великие. Они посягали на богов, и то, что говорит Гомер об Эфиальте и Оте, относится и к ним – именно они посягали взобраться на небо с целью напасть на богов».
Страдания – здесь это слово многозначно: и то, что человеческая природа претерпела исторически, и в чем она слаба и болезненна в сравнении с идеальной божественной. Это слово и позволяет Аристофану придумать миф об андрогинах, четырехруких и четырехногих изначальных людях.
15
«Зевс и прочие боги стали совещаться, как им быть, и оказались в затруднительном положении. С одной стороны, они не хотели убивать людей и, поразив их молнией, подобно тому, как поразили гигантов, истребить род людской – тогда исчезли бы для богов почести и жертвы от людей; с другой стороны, боги не могли и допустить такого буйства со стороны людей. Насилу-то наконец Зевс поразмыслил и говорит: “Кажется, нашел я средство, чтобы и люди остались существовать и чтобы, сделавшись более слабыми, прекратили свою необузданность. Вот теперь я рассеку каждого из них пополам. Тогда они и слабее станут, а вместе с тем пользы от них будет нам больше, так как число их увеличится, да и ходить они будут прямо на двух ногах. Если же окажется, что они все еще продолжают буйствовать и не пожелают быть спокойными, снова рассеку их пополам, так что они будут ходить на одной ноге, вприпрыжку”. Сказав это, Зевс рассек людей пополам, подобно тому, как рассекают рябину, собираясь ее солить [для соуса] (или как разрезают волосами яйца). У всякого человека, которого Зевс рассекал, Аполлон должен был переворачивать лицо и половину шеи в сторону разреза, чтобы, смотря на него, человек стал смирнее; Аполлону [как богу врачевания] Зевс повелел залечить остальные части. Аполлон перевернул лицо, стянул отовсюду кожу в то место, что теперь называется животом, подобно тому, как стягивают кошельки, а одно отверстие, образовавшееся на средине живота, называемое пупком, завязал. Он сгладил также и много остальных образовавшихся морщин, сформовал грудь, причем пользовался инструментом вроде того, какой употребляется сапожниками, когда они разглаживают на колодке морщины кожи. Но несколько морщин на животе и около пупка Аполлон оставил – на память об исконном состоянии людей.
Когда человеческий организм был рассечен пополам, каждая половина его, вожделея другой половины, стала сходиться с ней. Обхватив друг друга руками и сплетясь между собою, они стремились к соитию. Они умирали от голода и вообще от бездействия, так как ничего не хотели делать одна без другой.
И всякий раз, когда одна половина умирала, а другая оставалась жить, последняя искала другую половину и сплеталась с нею, встречала ли она половину (прежней) целой женщины – то, что теперь соответствует обозначению женщины, – или (половину прежнего целого) мужчины. Так гибли люди. Сжалился Зевс и придумал другое средство: переставил детородные члены людей наперед – до тех пор они были у них назади, и люди оплодотворялись не друг в друга, а в землю, подобно [откладывающим яйца] цикадам. Итак, Зевс переставил детородные члены наперед и, благодаря этому, сделал возможным взаимное оплодотворение людей чрез [совокупление] мужского пола с женским; сделал он это с той целью, чтобы, если при совокуплении мужчина встречался с женщиной, они производили зачатие, и чтобы от этого рождался плод. С другой стороны, если встречался мужчина с мужчиною, чтобы получалось, по крайней мере, удовлетворение от совокупления, а затем они разлучались, обращались к своим занятиям и заботились о дальнейшем своем существовании (каждый сам по себе).
Итак, вот с какого далекого времени любовь врождена взаимно людям, соединяет древнюю их природу и старается создать единое из двух и тем самым уврачевать природу человеческую».