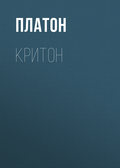Платон
Диалоги с Сократом. С комментариями и объяснениями
16
«Нет, Сократ, послушай ты нас, твоих кормильцев, не ставь выше справедливости ни детей, ни своей жизни, ни чего другого! Тогда, придя в Преисподнюю, ты можешь во всем оправдаться пред тамошними правителями. Ведь если ты сделаешь [то, что собираешься сделать], то ни здесь не окажется это лучшим, более справедливым, благочестивым ни для тебя, ни для кого-либо из твоих, да и там не будет, когда ты туда придешь, чем если ты теперь уйдешь, подвергшись несправедливости не от нас, законов, а от людей. Если же ты уйдешь, столь постыдно воздав за несправедливость и за тебе причиненное зло, преступив свои соглашения и договоры с нами, зло поступишь с теми, с кем это менее всего следовало – с самим собою, с друзьями, с отечеством, с нами. Мы будем на тебя гневаться, пока ты жив; да и там наши братья, законы Преисподней, неблагосклонно тебя примут, узнав, что ты и нас собирался погубить, насколько это от тебя зависит. И пусть не убедит тебя Критон поступать так, как он говорит, более чем убеждаем тебя мы».
17
Будь уверен, дорогой Критон, что мне кажется, будто я слышу эти речи, все равно как корибантствующим кажется, будто они слышат флейты. И от этих-то слов звон стоит у меня в ушах и не дает мне слушать ничего другого. Знай – так мне теперь кажется, – если ты будешь говорить против этого, то понапрасну ты будешь говорить. Впрочем, если думаешь достигнуть чего-либо большего, говори!
Корибанты – служители культа малоазийской богини Кибелы, доводившие себя до экстаза под музыку. Частое участие в таких ритуалах приводило к галлюцинациям, когда экстатическая музыка начинала звучать в уме.
Критон. Нет, Сократ, нечего мне говорить.
Сократ. Следовательно, Критон, оставь это, и поступим так, как бог указывает.
Пир
1
Аполлодор. Кажется, к тому, о чем вы меня спрашиваете, я хорошо подготовлен.
Дело было так. Третьего дня поднимался я в город из дому, из Фалера. Один из моих знакомых, шедший позади, увидел меня и окликнул издали. Шутя над моим прозвищем, говорит он: «Эй ты, Фалереец, Аполлодор, подожди!» Я остановился и стал поджидать его.
«Аполлодор, – говорит мой знакомый, – на днях я разыскивал тебя и хотел разузнать о той беседе, которую вели Агафон, Сократ, Алкивиад и прочие присутствовавшие тогда на товарищеской пирушке: что за речи велись там об Эроте? Мне рассказывал об этом кто-то со слов Фэника, сына Филиппа, и сказал, что ты это знаешь. Впрочем, ничего толком он мне изложить не мог. Расскажи уже ты; ведь тебе наиболее всего пристало оповещать о речах твоего приятеля. Но раньше ты мне скажи вот что: сам-то ты на этой беседе присутствовал или нет?»
Я заметил на это: «По-видимому, твой собеседник действительно ничего не рассказал тебе толком, коль скоро ты думаешь, что та беседа, о которой ты спрашиваешь, происходила недавно, так что и я на ней мог присутствовать».
В некоторых рукописях диалог имеет подзаголовки «Об Эроте» (по теме) и «Нравственный диалог» (не столько в смысле рассмотрения нравственных вопросов, сколько хорошо изображающий нравы участников диалога). Также бывает подзаголовок «О благе» (от греческого «агафон» (благо) происходит и имя Агафон).
Фалер – дем (сельский округ) к югу от Афин. Греческое «фалерос» означает также «лысый», то есть собеседник узнал Аполлодора сзади по лысине.
«А как же?»
«Да разве это мыслимо, Главкон? Не знаешь ты, что ли, что Агафона уже много лет здесь нет. С того же времени, как я вращаюсь в обществе Сократа и каждый день забочусь о том, чтобы знать, что он говорит, что делает, еще и трех лет не прошло; а до тех пор я вертелся где попало и думал, что чем-нибудь занимаюсь, представляя собою, на самом деле, человека более жалкого, чем кто-либо, не менее жалкого, чем ты теперь, ты, который полагаешь, что нужно заниматься чем угодно, только не философией».
Трагик Агафон переехал из Афин в Пеллу, столицу Древней Македонии, по приглашению царя Архелая. Собеседник жалуется, что он сам не имел ни покровителей, которые могли ввести в высшее общество, ни такого учителя, как Сократ, который научил бы самому входить в высшее общество.
Жалкий – здесь употреблено в общем смысле, как о человеке, не сделавшем политической карьеры, человеке «без чинов».
«Не издевайся, а скажи лучше, когда эта беседа происходила?»
«Мы были еще детьми, когда Агафон одержал победу своей первой трагедией [416 г. до н. э.], а затем, на следующий день, он со своими хоревтами совершал жертвоприношение по случаю одержанной победы».
Хоревт – участник хора, который был одновременно певцом и танцором, по-нашему – «оперным» и «балетным».
«Да, оказывается, давно это было. А тебе-то это рассказывал сам Сократ, что ли?»
«Да нет же, а тот, кто рассказывал и Фэнику. Был тут некто Аристодем Кидафинеец [из другого дема Афин], такой маленький, всегда босой. Он присутствовал при той беседе; в то время, сдается мне, он был самым усердным поклонником Сократа. Впрочем, кое о чем из того, что я услышал от него, я спрашивал у Сократа, и тот подтвердил мне его рассказ».
«Ну так расскажи и мне! Дорога в город вполне располагает, чтобы во время нее и говорить, и слушать».
По пути мы и вели разговор на эту тему, так что, как я сказал в начале, я хорошо подготовлен к своему рассказу и, если следует и вам его передать, то это нужно сделать. Я, вообще, чрезвычайно бываю рад, когда либо сам заведу разговор о философии, либо слушаю о ней других, не говоря уже о том, что я рассчитываю при этом извлечь для себя и пользу. Когда я слушаю иные речи, в особенности ваши речи, людей богатых, опытных дельцов, на вас мне становится досадно, а приятелей ваших жалко: ведь вы думаете, будто чем-то занимаетесь, а на самом деле ничем не занимаетесь. Может быть, вы, со своей стороны, считаете меня злосчастным, и я допускаю, что вы правильно так судите; но что касается меня, то я уже не думаю, но вполне уверен, что вы действительно злосчастны.
Приятель. Вечно ты все тот же, Аполлодор: всегда-то ты обвиняешь и самого себя, и всех других, и мне кажется, ты прямо-таки всех, начиная с самого себя, считаешь людьми жалкими, за исключением только Сократа. С каких пор ты получил прозвище «неистовый», мне неизвестно. Только в своих речах ты всегда таков: злишься на самого себя и на всех прочих, кроме Сократа.
Злосчастный – буквально, находящийся под властью дурного даймона. Сократ считал себя под властью доброго даймона своей совести, поэтому кто не беседует с Сократом, тот злосчастен и бессовестен.
Неистовый (букв. неженка, капризный) – собеседник Сократа играет с разными оттенками этого слова: тебя считают мягким, но ты вздорный, и оба эти качества можно обозначить одним словом.
Аполлодор. Ясно, любезнейший, что если я так думаю о себе и о вас, то я сумасбродствую и заблуждаюсь.
Приятель. Не стоит, Аполлодор, теперь препираться об этом. А вот о чем мы просили тебя, не откажи рассказать: какие же тогда велись речи.
Аполлодор. Были они такого рода… Впрочем, я постараюсь рассказать вам все с самого начала, как и тот мне рассказывал…
2
А рассказ его был таков. Встретил он Сократа вымывшегося, в парадных сандалиях – это с ним редко случалось – и спрашивает его, куда это он идет такой нарядный.
Сократ отвечал: «На обед к Агафону. Вчера, во время жертвоприношения по случаю победы, я увильнул от него, испугавшись толпы, но условился с ним, что приду сегодня. Вот я и приукрасился, чтобы красивым идти к красивому. А ты, спрашивает он меня, что ты скажешь – не пойти ли и тебе на обед без приглашения?»
«Сделаю так, как ты прикажешь», – сказал я.
«Ну так следуй за мною, – продолжал Сократ. – Мы тут исковеркаем поговорку, изменив ее так: к доброму мужу на пир идут добрые сами собой. Ведь Гомер-то, по-видимому, не только исковеркал эту поговорку, но и надругался над нею: представив Агамемнона мужем чрезвычайно доблестным в военном деле, а Менелая “изнеженным копейщиком”, он заставил в то время, как Агамемнон совершал жертвоприношение и устраивал угощение, прийти Менелая на пир без зова, т. е. худшего прийти на пир к лучшему».
Перед званым обедом считалось хорошим тоном принять ванну, в том числе, чтобы не слишком пьянеть. Сократ много ходил по городу пешком, обувь от этого трепалась, поэтому нарядные сандалии выдавали, что произошло что-то исключительное. Агафон был известным красавчиком и щеголем, Аристофан в одной из комедий представил его в женском платье, высмеивая его любовь к украшениям и дорогим нарядам, которые должны были обратить на него внимание публики. Имя «Агафон» означает «добрый», а вставленные в поговорку слова «сами собой» иронически означают «без приглашения».
Гомер, согласно Сократу, принимает во внимание только военную доблесть, но таким образом противоречит сам себе, если считает, что Менелай вправе приходить на пир без зова, как военный герой, хотя перед этим называет его плохим воином. Сократ же считает доблестным любого добродетельного человека, поэтому не впадает в это противоречие аристократической этики. Далее в тексте идут другие цитаты из Гомера. Древние греки могли цитировать Гомера, подобно тому, как мы сейчас используем в разговоре фразы из известных литературных произведений и кино.
Выслушав это, я заметил: «Чего доброго, как бы и мне не попасть в рискованное положение и не оказаться, вопреки твоим словам, Сократ, по Гомеру, плохим человеком, который идет без приглашения на пир к человеку мудрому. Смотри, взялся вести меня с собой, так и скажи что-нибудь в мое оправдание, вроде того, что я не соглашался идти без зова, да ты меня пригласил».
«Идя вдвоем, – сказал Сократ, – мы наперед… обдумаем, что сказать. Идем же!»
Обменявшись примерно такими словами, мы отправились. Во время пути Сократ, углубившись в свои мысли, стал отставать. Когда я хотел подождать его, он велел мне идти вперед.
Подойдя к дому Агафона, я нашел дверь открытой. Тут произошла забавная сцена. Встретивший меня тотчас же слуга из числа находившихся внутри дома повел меня туда, где все уже возлежали; они собирались приступить к обеду. Агафон, как только увидел меня, говорит: «А, Аристодем, милости просим, пообедаешь вместе с нами. Если же цель твоего прихода иная, отложи это до другого времени. Я и вчера искал тебя, чтобы пригласить, да не мог тебя приметить. А Сократа-то что же ты не привел к нам?»

Обернулся я и нигде не нахожу Сократа за собою. «Я сам, – говорю я, – шел с Сократом; это он пригласил меня сюда на обед».
«Прекрасно, – говорит Агафон, – да где же он?»
«За мною, сейчас войдет. Я и сам дивлюсь, где он может быть».
«Мальчик, – сказал Агафон, – посмотри, пожалуйста, и приведи Сократа; а ты, Аристодем, располагайся возле Эриксимаха».
На ложах, длинных скамьях, могли возлежать по двое. Когда древние греки праздновали победу на соревнованиях, деловые вопросы, вроде возвращения долгов или одалживания, не обсуждались.
3
Слуга обмыл мне ноги, чтобы я мог возлечь. А другой слуга пришел с такою вестью: «Сократ этот пошел назад, остановился у соседней входной двери и на мой зов сказал, что не желает идти к нам».
«Что за вздор ты несешь? – говорит Агафон. – Зови его, не отставай!»
А я на это заметил: «Ни в коем случае! Оставьте его! Это у него такая привычка – отойдет иной раз, куда придется, и стоит. Я полагаю, он тотчас явится. Только оставьте его, не трогайте!»
«Ну ладно, сделаем так, если тебе угодно, – сказал Агафон. – А нас, слуги, всех остальных, вы угощайте! Во всяком случае, предлагайте нам, что хотите. Ведь начальника над вами никакого нет – я никогда этого не делал. Считайте, что вы пригласили к обеду и меня и всех остальных, ублажайте нас, чтобы снискать похвалу от нас».
Никакого нет – нет распорядителя пира, тамады, а значит, есть только равенство гостей и слуг.
После этого они начали обедать, а Сократ все не появляется. Агафон неоднократно отдавал приказ сходить за Сократом, но Аристодем не допускал делать этого. Сократ пришел, замешкавшись, по обычаю, на короткое время, но уже тогда, когда обед был на середине. Агафон – он возлежал один на крайнем ложе – говорит: «Иди сюда, Сократ, располагайся около меня! От прикосновения с тобою отведаю и я той мудрости, какая пристала к тебе там, у входной двери. Ведь, очевидно, ты нашел ее и держишь ее при себе, иначе ты не отстал бы».
Каламбуры этого отрывка трудно передать по-русски, задержка философа в дверях как бы предваряет происходящее – то, что Сократ выступит мудрее всех. Конечно, имеется в виду и символика дверей в античном театре: открытие определенных дверей означало какой-то конкретный поворот действия. Такая образность сохранилась и в православной литургии в любой церкви: открытие центральных врат – явление Христа как царя, а открытие боковой двери – выход еще неизвестного людям Христа на проповедь.
Сократ сел и говорит: «Хорошо было бы, Агафон, если бы свойство мудрости было таково, что она могла бы перетекать, когда мы соприкасаемся друг с другом, из более полного в более пустое – все равно, как вода в кубках, которая через шерсть течет из кубка более полного в кубок более пустой. Вот если бы и с мудростью было то же самое, я дорого бы дал, чтобы возлежать рядом с тобою: тогда, я полагаю, я наполнился бы от тебя обильною и прекрасною мудростью. Ведь моя-то мудрость плохенькая, да и под сомнением, все равно, что сновидение; ну а твоя блестящая и сильно растет, коль скоро у тебя, молодого человека, она так ярко заблистала и проявилась третьего дня в присутствии более чем тридцати тысяч свидетелей [аншлаг в театре] из греков».
Блестящая – т. е. ассоциируется с дневным светом, когда на небе блестит солнце, в противоположность ночи и ночному сну. Спектакли в античном театре ставили в дневное время, при этом в них использовали спецэффекты (шум и блеск). Сократ противопоставляет театральному успеху Агафона свои уединенные ночные размышления.
«Насмешник ты, Сократ, – сказал Агафон. – Немного погодя мы с тобою, я да ты, рассудим все это насчет мудрости и в судьи возьмем Диониса. А теперь прежде всего принимайся за обед!» (…)
Насмешник (др.-греч. гюбрист) – специфическая фигура античной драматургии и этики: человек, своим поведением бросающий вызов богам и обычаям, провокатор. Афинский театр был посвящен древнегреческому богу Дионису. Однако далее, чтобы попойка прошла легко, герои предлагают каждому участнику произнести речь в честь бога любви Эрота, делающего жизнь людей счастливой и беззаботной.
5
Вот что сказал Эриксимах: «Я начну с того, с чего начинает Меланиппа у Еврипида: “Не мой рассказ, но…” то, что я намерен сказать, принадлежит вот этому Федру. Федр всякий раз с негодованием мне говорит: “Не странно ли, Эриксимах, что некоторым богам поэтами сочинены гимны и пеаны, между тем Эроту, столь великому, столь могущественному богу, никогда еще ни один поэт – а сколько их было – не сочинил ни одной хвалебной песни. С другой стороны, не угодно ли обратить внимание на почтенных софистов, которые, как, например, добрейший Продик, сочиняют в прозе похвалы в честь Геракла и других. Впрочем, в этом еще ничего удивительного нет. Но как-то я натолкнулся на одну книжку, принадлежащую мудрому мужу; в ней говорилось о соли, как о предмете достойном, ввиду приносимой ею пользы, удивительной похвалы. И немало других подобного же рода предметов ты встретил бы там, что превознесены похвалою, и ко всему этому приложено много стараний. Эрота же до сегодняшнего дня ни один еще человек не дерзнул воспеть достойным образом. И столь могущественный бог оказывается в таком пренебрежении”. На мой взгляд, Федр все это говорит правильно. Итак, я страстно желаю внести свою лепту в восхваление Эрота и умилостивить его; с другой стороны, мне кажется, настоящий момент подходит к тому, чтобы мы, присутствующие здесь, украсили бога. Если вы согласны с моим мнением, то материала для нашей беседы достаточно. Я предлагаю: каждый из нас, начиная справа, должен произнести самую прекрасную, какую он только в состоянии, похвальную речь Эроту. А начинать первому следует Федру, так как он возлежит первым справа и вместе с тем ему принадлежит это наблюдение».
Цитата из не сохранившейся пьесы Еврипида «Меланиппа Мудрая»: защищая детей, героиня говорит там, не от себя лично, но опираясь на общие места риторики, чтобы все ей поверили: искренней речи могли не доверять те, кто был избалован красноречием.
Гимн – песнь в честь любого божества, сопровождавшаяся игрой на кифаре, струнном инструменте, подобном современной гитаре.
Пеан – песнь в честь Аполлона или иного бога, часто под аккомпанемент флейты, более экстатичная, чем гимн.
«Никто, – сказал Сократ, – не будет голосовать против твоего предложения, Эриксимах. Да и я не откажусь – ведь утверждаю же я, что я только и знаю одно – то, что относится к области Эрота. Не откажутся и Агафон и Павсаний, не откажется, конечно, и Аристофан, все мысли которого вращаются вокруг Диониса и Афродиты; да и никто другой из тех, кого я вижу здесь, не откажется. Но с нас достаточно будет и того, если наши предшественники будут говорить достаточно хорошо. Ну, в добрый час, пусть начинает Федр и слагает свою похвалу в честь Эрота».
Все остальные требовали того же, что и Сократ. Всего того, что каждый сказал, и Аристодем хорошо не запомнил, да и я не запомнил того, что Аристодем рассказывал. То же, что мне показалось особенно достойным запоминания в речи каждого, это я вам изложу.
Софисты – здесь не столько вольные преподаватели наук, ориентированные на ценности демократического политического участия, но, используя современные англицизмы, «спичрайтеры» и «коучи публичных выступлений», в отличие от Сократа бравшие плату за написание речей или обучение красноречию.
Продик (ок. 465 до н. э. – ок. 395 до н. э.) – один из самых известных древнегреческих софистов, составитель первого словаря синонимов для обогащения речей.
Похвалы – одно из упражнений софистов и риторов: сочинить похвалу на заданную тему, чтобы научиться не следовать своим эмоциям, а возбуждать чужие.
6
Первою, говорю я, была речь Федра. Начал он ее, примерно, так:
@Великий бог Эрот и достойный удивления среди людей и богов, как и во многом ином, так преимущественно по своему происхождению. Ведь почетно то, что этот бог среди богов самый старший. Доказательством этого служит следующее: родителей Эрота не существует, и о них не говорит ни один ни прозаик, ни поэт. Гесиод удостоверяет, что сначала произошел Хаос, а затем
Гея с широкою грудью, седалище всех безопасное вечно,
И Эрот.
С Гесиодом согласен и Акусилай, указывающий, что после Хаоса произошли эти двое: Гея и Эрот. А Парменид говорит о Происхождении, что оно
Прежде всего из всех богов замышляет Эрота.
Акусилай (ок. VI в. до н. э.) – ранний философ, историк и мифограф, первый изложивший историю богов не стихами, а прозой.
Парменид (ок. 540 – ок. 470 до н. э.) – один из крупнейших доплатоновских философов, создатель Элейской школы, настаивавший на тождестве бытия, познания и речи, против чего и возражали софисты, создававшие заведомо ложные, но правдоподобные речи. В его системе Эрот выступает в качестве принципа единства материи.
Таким образом, со стороны многих подтверждается, что Эрот является самым старшим из богов. Будучи самым старшим, он оказывается для нас виновником величайших благ. В самом деле, я затрудняюсь сказать, какое благо является большим для человека с первых же шагов его молодости, как не благородный любящий, а для любящего – благородный же предмет любви. Ведь того, чем должны руководствоваться люди, собирающиеся прожить всю свою жизнь прекрасно, им не в состоянии дать ни родство, ни богатство, ни что-либо иное столь прекрасным образом, как способна это сделать любовь. Что разуметь под этим? С одной стороны, стыд к постыдному, с другой – рвение к прекрасному: ведь без этого невозможно ни государству, ни частному человеку совершать великие и прекрасные дела. Я утверждаю: если обнаружится, что любящий человек совершает что-либо постыдное или терпит это от кого-либо, и при этом, по отсутствию мужества, не обороняется, он не станет горевать, если замечен будет в этом отцом, либо приятелем, либо кем-либо другим, в такой степени, как если он замечен будет предметом своей любви. То же самое наблюдаем мы и в отношении любимого человека: он чрезвычайно стыдится своих поклонников, когда будет замечен в каком-либо постыдном деянии. Если бы нашлось какое-либо средство образовать государство, или военный лагерь, состоящий из поклонников и предметов их любви, то нельзя было бы лучше устроить его, как путем воздержания от всего постыдного и посредством взаимного соревнования (ко всему прекрасному); поддерживая в битве друг друга, такие люди, как бы мало их ни было, одерживали бы победу, так сказать, над всеми людьми [во имя любимого человека]. Действительно: любящий, оставивший строй или бросивший оружие, легче, разумеется, отнесся бы, если бы он был замечен в этом всеми прочими – только не предметом своей любви; да он скорее предпочел бы иной раз смерть взамен того. А покинуть предмет любви или не помочь ему в минуту опасности – да такого низкого человека не найдется, которого сам Эрот не вдохновил бы на доблесть так, чтобы он уподобился наилучшему по природе. И то, о чем говорил Гомер безотносительно [Эрота], – именно, что в некоторых героев бог вдыхал отвагу – это, как проистекающее от него, Эрот доставляет любящим». (…)
Далее Федр приводит ряд примеров из мифологии и эпоса, показывающих готовность на подвиги ради любимого человека.