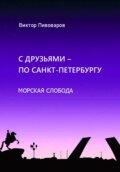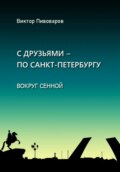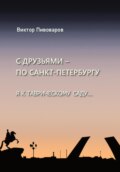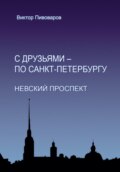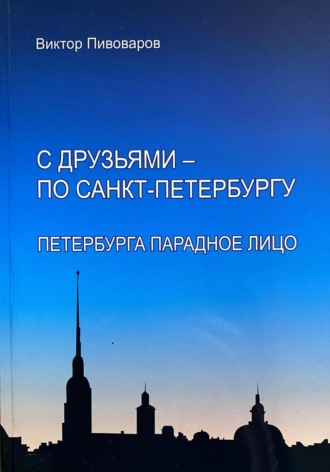
Пивоваров Виктор
С друзьями – по Санкт-Петербургу. Петербурга парадное лицо
Последним морским министром Российской Империи был адмирал Иван Константинович Григорович, заслуги которого перед Отечеством невозможно переоценить. Вступив в должность в 1911 году, он за шесть лет, из которых три приходятся на военное время, сумел воссоздать военно-морской флот, фактически потерянный в ходе русско-японской войны. При этом Иван Константинович ухитрялся выкраивать время для занятий живописью, к чему имел несомненный талант.
Каждое утро независимо от времени года и состояния погоды, Григорович совершал пробежки вокруг Адмиралтейства. Наблюдая за ним из окон своих покоев, супруга последнего императора, Александра Фёдоровна, строго выговаривала «своему Ники», что он не следит за своим здоровьем, как его морской министр.
Каким-то чудом Григоровича не тронули после 1917 года. Не меньшим чудом после многолетних просьб было получение разрешения на выезд для лечения во Францию, где в небольшом курортном городке на Лазурном берегу, он в бедности провёл остаток жизни.
Иван Константинович Григорович скончался в 1930 году в возрасте 77 лет и был похоронен во Франции на местном кладбище.
В 2005 году, в соответствии с двусторонними договорённостями между Францией и Россией, отряд кораблей Черноморского флота доставил в порт Новороссийска урну с прахом Григоровича. Далее самолетом урна была доставлена в Санкт-Петербург, где погребена в сохранившемся (еще одно чудо) семейном склепе Григоровичей на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. На всем пути следования – от берегов Франции до Никольского кладбища – праху последнего морского министра были оказаны высшие воинские почести.
Ещё находясь в Советской России Иван Константинович написал «Воспоминания бывшего морского министра», закончив работу к весне 1919 года. Воспоминания были написаны осторожно, почти не затрагивали политических вопросов и описывали события только до начала Февральской революции. Тем не менее они пролежали в архиве более 70 лет и были впервые опубликованы только в 1993 году.
В советское время, когда в здании Адмиралтейства размещалось высшее военно-морское училище, бывшая служебная квартира морского министра сохранялась в неприкосновенности – курсанты в это крыло не допускались. В этих интерьерах было достойно принимать иностранные военные делегации.
А вот со стороны Невы вид на верфь оставлял желать лучшего, да и сквозной проезд по набережной был невозможен.
В середине XIX века кораблестроительное производство было перенесено ближе к заливу, но только в 1871 году городские власти приступили к освоению освободившейся территории. Земля была продана в частные руки, а на вырученные средства берег Невы укрепили гранитной стенкой, проложили бульвар и высадили деревья.
Затем на проданных участках были построены 6 домов, для осмотра которых пересечем Адмиралтейский проспект и прогуляемся по бульвару вдоль Адмиралтейской набережной.
На ходу отметим, что после окончания строительства здания Адмиралтейства, в 1824 году, были созданы Дворцовая и Петровская пристани.
Дворцовая пристань была украшена фигурами львов и двумя вазами из полированного гранита, а Петровская, почему-то осталась без украшений.
В конце 1830-х мелькнула мысль установить там скульптурные группы Петра Клодта – «Конь с водничим», но от неё отказались (рядом – «Медный всадник» и неподалёку, у манежа Конногвардейского полка, мраморные конные группы «Полидевк и Кастор». Зачем столько лошадей на небольшом пространстве?).
В 1912 году началось строительство Дворцового моста по проекту инженера Андрея Петровича Пшеницкого, что вызвало перенос Дворцовой пристани ниже по течению. В ходе этой реконструкции вазы были перенесены к Петровской пристани, где и стоят по сей день.
Строительство моста затянулось из-за начавшейся мировой войны и только в 1916 году, в присутствии императорской семьи, состоялась весьма скромная церемония открытия.
Застройка домов между павильонами Адмиралтейства начинается со здания школы, построенного в 1950-е годы, перед которым разбит небольшой сквер.
Здание в виде буквы Г выходит на красную линию набережной узким торцом, который «замаскирован» под фасад соседнего дома 6.

Доходный дом и театр Панаева. Старинная открытка
До 1917 года на этом месте стоял доходный дом и театр Валериана Александровича Панаева, построенный по проекту гражданского инженера Дмитрия Константиновича Пруссака. Зодчий оформил фасад в псевдорусском стиле, что, по мнению современников, не соответствовало классицистическому облику здания Адмиралтейства.
Инженер путей сообщения, Валериан Александрович Панаев, за годы работы на строительстве железных дорог скопил некоторое количество денег, которые и вложил в сооружение этого дома. Строительство началось в 1876 году, но затянулось и, в итоге, разорило Панаева. Недострой пришлось продать. Но несмотря на смену владельца, театр, открывшийся лишь в 1888 году, так и продолжали называть «Панаевским театром».
В 1917 году случился сильный пожар, охвативший в течении нескольких минут все этажи. Здание сгорело и было разобрано, а последующие революционные события помешали его восстановлению.
Соседний участок под номером 6 приобрело страховое общество «Россия», которое в 1878 году построило здесь доходный дом. В этом доме с 1895 по 1899 год жил основатель Общества спасения на водах, адмирал, генерал-адъютант Константин Николаевич Посьет.
В 1911 году участок приобрело страховое акционерное общество «Русский Ллойд», для которого гражданский инженер Павел Карлович Бергштрессер перестроил здание, придав ему внешний вид, существующий и поныне.

Царь – плотник
Рядом на бульваре, напротив дома 6, находится станковая скульптура «Царь-плотник» работы скульптора Леопольда Адольфовича Бернштама, который запечатлел в бронзе молодого Петра I, увлечённого работой на саардамских верфях. Скульптура была создана в 1910 году, а некоторое время спустя Николай II подарил копию городу Саардаму (ныне – Зандам).
В 1919 году памятник был снят, как малохудожественный», и бесследно исчез, но в 1996 году правительство Нидерландов, сняв копию с копии, сделало ответный подарок Санкт-Петербургу.
В 1909 году здесь же на бульваре была установлена ещё одна станковая скульптура того же автора – «Пётр I, спасающий утопающих», которую в 1919 году тоже признали «малохудожественной». Этот памятник утрачен навсегда.
Продолжим движение по бульвару и за Азовским переулком обратим внимание на роскошное здание (Адмиралтейская набережная, 8), стилизованное под итальянский ренессанс. Перед нами дворец великого князя Михаила Михайловича, созданный в 1885-1891 годах по проекту Максимилиана Егоровича Месмахера.
Великий князь Михаил Михайлович – родной брат Николая Михайловича – последнего владельца Ново-Михайловского дворца (Дворцовая набережная, 18) в 1891 году, вопреки запрету родителей и, не спрашивая разрешения у императора Александра III, женился на Софье Николаевне Меренберг – внучке Александра Сергеевича Пушкина (чёрные кудри, огромные глаза, тонкая в рюмочку талия – было от чего потерять голову). Взбешённый Александр III запретил Михаилу Михайловичу появляться в России и новобрачные поселились в Лондоне, где их потомки проживают и поныне.

Мало-Михайловский дворец
Из-за небольшого размера участка архитектор разместил традиционный двор-курдонер в боковой переулок, создав обманчивое впечатление парадного входа, который, на самом деле, находится со стороны набережной.
Широкие арочные окна второго этажа обрамляют парные полуколонны, а сдвоенные окна третьего – парные пилястры.
Высокий цокольный этаж облицован финляндским гранитом, остальные этажи – песчаником. Завершает фасад дворца изящная балюстрада.
Дворец получил название Мало-Михайловский, чтобы отличать его от других, Михайловского и Ново-Михайловского.
Мало-Михайловский дворец был оборудован по последнему слову техники – здесь имелись газ, электричество, телефон, водопровод и канализация.
Надеясь вернуть затраченные средства, Михаил Михайлович, лишенный возможности вернуться в Россию, пытался продать дворец через братьев, Александра и Сергея. Это удалось только в 1911 году – здание приобрело страховое акционерное общество «Русский Ллойд». Гражданский инженер Павел Карлович Бергштрессер выполнил необходимые перестроения одновременно с домом 6.
В советское время во дворце размещались различные организации, в частности – городское управление торговли.
Участок дома 10 приобрела Ольга Николаевна Рукавишникова – представитель богатейшего купеческого рода нижегородских предпринимателей и меценатов.
Дочь Ольги Николаевны, Елена, стала женой Владимира Дмитриевича Набокова и матерью писателя – Владимира Владимировича Набокова.
Рукавишниковым принадлежало имение Рождествено на реке Выра, усадебный дом в котором построил видный архитектор Александр Фёдорович Красовский. Ему и было поручено сооружение доходного дома на приобретённом участке, что и было исполнено в 1881 году в содружестве с архитектором Владимиром Родионовичем Курзановым.
По каким-то причинам Рукавишникова продала дом только что образовавшемуся Крестьянскому поземельному банку, который владел им вплоть до 1918 года.
За Керческим переулком находится большое здание Общества поземельного взаимного кредита, занимающее участки 12 и 14.
В Общество поземельного взаимного кредита входили Дворянские заемные банки, учрежденные еще указом Елизаветы Петровны в 1754 году и Крестьянский поземельный банк, созданный в 1882 году Министерством финансов с целью обеспечить крестьянам возможность увеличить свои наделы.

Адмиралтейская наб. 10, 12 – 14
Первым, в 1880 году, появилось строение на участке 14 по проекту архитектора Александра Ивановича Кракау. Через год для некоего А. Ф. Паулуччи архитектор Александр Васильевич Иванов построил доходный дом на участке 12, большие квартиры в котором на втором, третьем и четвёртом этажах занимала семья художника Константина Егоровича Маковского. Квартира на последнем этаже была оборудована под мастерскую, которая иногда была концертным и танцевальным залом.
В 1912 году Общество поземельного взаимного кредита приобрело дом 12 и его фасад был приведён к фасаду дома 14. В это же время ставшее единым здание было соединено переходом с домом 10.
Завершая прогулку по Дворцовой и Адмиралтейской набережным попробуем мысленно «снести» все шесть домов. Представляете какой вид с Невы открылся бы тогда на башню Адмиралтейства!
Этот вопрос эпизодически всплывает, будоражит умы и снова исчезает на неопределенное время. Так в 1945 году, когда страна лежала в руинах, на выставке фронтовых художников был представлен проект О.Н.Захарова, предусматривающий разборку домов с устройством на их месте полуциркульной колоннады. Как знать, может когда-нибудь это и осуществится.
Прогулка четвертая
От Михайловского дворца к Михайловскому замку

Этот маршрут мы начнём от Михайловской площади, ныне площадь Искусств, пройдём вдоль канала Грибоедова к Мойке, затем вдоль Марсова поля к Михайловскому замку и вернёмся назад по Итальянской улице.
История Михайловского дворца (в настоящее время – Русский музей) начинается в 1798 году, когда в императорской семье родился мальчик – единственный порфирородный из всех детей.
У Павла I было десять детей – четверо сыновей и шесть дочерей. Но только последний ребёнок был порфирородным, то есть родившимся в период, когда Павел был императором.
Младшего сына нарекли Михаилом в честь «небесного покровителя» отца – Архангела Михаила. Порфирородность выделяла Михаила перед другими сыновьями – Павел I повелел откладывать каждый год по несколько сот тысяч рублей, чтобы со временем построить для него отдельный дворец.
Александр I, принявший бразды правления Россией после убийства Павла I, волю отца неукоснительно выполнял – деньги аккуратно откладывались и в 1819 году строительство дворца для великого князя Михаила Павловича началось.
Выдающийся архитектор и градостроитель Карл Иванович Росси не только составил проект городской усадьбы, но и сформировал все окружающее пространство.
Садовая улица была продлена до Невы, а Итальянская – до Екатерининского канала. Для обзора дворца с Невского проспекта была пробита Михайловская улица и организована Михайловская площадь.
В этом проекте Росси прорисовал в мельчайших подробностях все детали внутреннего убранства – от эскизов потолочных плафонов до рисунка паркета. Вместе с архитектором над созданием интерьеров работали скульпторы Степан Пименов и Василий Демут-Малиновский, художники Джованни Батиста Скотти, Антонио Виги, Барнаба Медичи, а также мраморщики, резчики, паркетчики, мебельные и другие мастера. Внутреннее убранство обошлось дороже, чем строительство самого здания. Обои Царскосельской фабрики стали новинкой для того времени. Паркет был изготовлен из драгоценных пород дерева: красного, палисандрового, цейлонского эбенового и других.

Михайловский дворец
Не остался без внимания и ландшафт парка: пруды, мостики, разные «затеи» и павильон-пристань на Мойке.
В 1825 году Михаил Павлович с супругой Еленой Павловной переехали в полностью законченный строительством дворец.
Надо отметить, что Михаил Павлович, родной брат императора Николая I, никогда не играл серьёзной роли в государственных делах, но несомнен его вклад в развитие военного, а особенно артиллерийского дела в России.
Что касается Елены Павловны – это была выдающаяся женщина, заслуги которой на ниве благотворительности невозможно переоценить. При ней Михайловский дворец стал своеобразным культурным центром. В её салоне бывали общественные деятели, музыканты, учёные, писатели, художники, среди которых Василий Жуковский, Александр Пушкин, Фёдор Тютчев, Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Николай Миклухо-Маклай. Здесь, при помощи Елены Павловны, Антон Рубинштейн основал Русское музыкальное общество, а затем и первую в России Консерваторию.
После смерти Михаила Павловича в 1849 году дворец перешёл к его вдове, а в 1894 году после смерти Елены Павловны – к дочери, Екатерине Михайловне, единственной оставшейся в живых к этому времени из пяти, рождённых в браке. Екатерина Михайловна была замужем за герцогом Мекленбург-Стрелецким, таким образом Михайловский дворец стал собственностью германских подданных.
Император Александр III, известный своим русофильством, вознамерился выкупить дворец для того, чтобы в его стенах создать музей, в котором будут собраны художественные произведения русских мастеров живописи и ваяния. Волю скончавшегося отца исполнил Николай II – так появился «Русский музей императора Александра III».
Для нужд музея здание было перестроено по проекту архитектора Василия Фёдоровича Свиньина. От интерьеров Карла Росси остались лишь Парадная лестница и Белый зал. На месте восточного крыла, где были конюшни и манеж, в 1900-1911 годах было построено здание Этнографического отдела музея.
Обойдём вокруг Михайловской площади, застройка которой проектировалась Росси как единый архитектурный ансамбль. По его замыслу площадь должны были окружать трехэтажные жилые дома, призванные служить архитектурным фоном для Михайловского дворца. Именно поэтому здание для камерного императорского театра (площадь Искусств, 1), построенное в 1831-1833 годах по проекту архитектора Александра Павловича Брюллова, имеет облик жилого дома.

Михайловский театр
До 1917 года Михайловский театр, наряду с Мариинским и Александринским, управлялся общей дирекцией императорских театров и использовался как дополнительная сцена. Не было постоянной труппы и определенного репертуара, гастролировали французские и иногда немецкие артисты.
В советское время, с 1918 по 1936 годы, художественным руководителем и главным дирижёром был назначен Самуил Абрамович Самосуд, осуществивший здесь три мировые премьеры, которые вписали МАЛЕГОТ (такая была в советское время официальная аббревиатура – Малый государственный театр оперы) в историю мирового оперного искусства: «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и «Война и мир» Сергея Сергеевича Прокофьева.
Первым хозяином соседнего дома (площадь Искусств, 3), построенного также в соответствии с общим замыслом Росси, был боевой генерал Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, отличившийся в войне с Наполеоном. Его портрет кисти Джорджа Доу помещен в Военной галерее Эрмитажа. Злые языки связывают происхождение слова «кутузка» с его фамилией, так как Павел Васильевич, будучи в 1825-1830 годах военным губернатором Санкт-Петербурга, сыграл не последнюю роль в казни декабристов.
Мемориальная доска свидетельствует, что в этом доме с 1924 по 1939 год жил художник Исаак Израилевич Бродский – автор портретов Ленина и других вождей коммунистической партии, официозных картин советской эпохи, репродукции которых печатались в календарях, учебниках, пропагандистской литературе огромными тиражами. К сожалению, это «творческое наследие» заслонило подлинного художника Бродского, создавшего проникновенные лирические пейзажи и многочисленные портреты с утонченной и глубокой характеристикой.
В наши дни в бывшей квартире Бродского работает музей, в котором представлены работы русских мастеров живописи и графики, собранные самим Исааком Израилевичем в течении всей жизни. В коллекцию входят свыше 200 картин самого Бродского, а также приблизительно 600 произведений других художников.
Следующий дом (площадь Искусств, 5) вошёл в историю города под именем архитектора Поля (Павла Петровича) Жако, построившего это здание в 1831 году с использованием эскизов Росси.
Во втором дворе дома Жако в канун 1912 года открылось литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака», ставшее символом эпохи Серебряного века русской поэзии. Кабаре основал антрепренёр Борис Пронин при участии писателя Алексея Толстого, архитектора Ивана Фомина, художника Мстислава Добужинского, драматурга Николая Евреинова. Здесь собиралась вся литературная и артистическая богема: Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Тамара Карсавина, Игорь Северянин, Надежда Теффи, Давид Бурлюк, Сергей Есенин, Александр Вертинский, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и другие. В 1915 году заведение было закрыто, но вскоре открылось в другом месте и под другим названием.
Мы подошли к Михайловской улице, вся правая сторона которой занята зданием Гранд-отеля Европа (Итальянская, 7), созданным архитектором Людвигом Францевичем Фонтана в 1875 году в стиле пышной эклектики. Всё скульптурное убранство было выполнено по моделям Давида Ивановича Иенсена. В разное время в гостинице останавливались многие отечественные и зарубежные государственные деятели, корифеи науки, писатели, музыканты, кумиры сцены и экрана.

Бывшее Дворянское собрание
С левой стороны улицы находится здание (Итальянская, 9), построенное для Дворянского собрания в 1834-1839 годах архитектором Полем Жако, которое уже с 1840-х годов стало центром музыкальной жизни столицы. Здесь выступали: Ференц Лист, Антон Рубинштейн, Клара Шуман, Полина Виардо, Рихард Вагнер, Пётр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский. С советских времён здесь располагается Большой зал некогда Ленинградской, а ныне Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича, в котором 9 августа 1942 года была исполнена 7-я симфония. В память об этом событии на здании установлена мемориальная доска.
Восточную сторону площади Искусств обрамляют два дома: на углу с Итальянской находится дом Виельгорских (площадь Искусств, 4), построенный 1830-е годы, а на углу с Инженерной (площадь Искусств, 2) – здание средней школы, сооружённое в 1938 году по проекту архитектора Ноя Абрамовича Троцкого, предусмотревшего единую высоту с историческим соседом, а также аналогичные величину и ритм оконных проёмов. В 1947 году советские архитекторы согласовали фасад школы с фасадом дома Виельгорских и теперь они выглядят как единое целое.
Братья Михаил Юрьевич и Матвей Юрьевич Виельгорские были музыкантами и меценатами, участвовали в создании Концертного и Филармонического обществ, духовых оркестров. Так же известны как популяризаторы симфонической музыки.
Невозможно обойти вниманием установленный в центре сквера замечательный памятник Александру Сергеевичу Пушкину, торжественно открытый в 1957 году. Пушкин стоит в непринужденной и естественной позе, как будто читает стихи. Автор монумента, Михаил Константинович Аникушин, для достижения портретного сходства руководствовался не только известными портретами кисти Ореста Кипренского и Василия Тропинина, но также фотографиями внуков и правнуков. За эту работу скульптор был удостоен Ленинской премии.
Покинем площадь Искусств и по Инженерной улице выйдем на набережную канала Грибоедова. До 1739 года это была речка Кривуша, не соединявшаяся с Мойкой. При Екатерине II ее, равно как и другие реки, одели в гранит. Известно, что императрице показали различные варианты выпрямления русла, но она повелела облицевать камнем «как есть». Благодаря этому Екатерининский канал имеет славу самой романтичной водной артерии Петербурга. Правда, во второй половине XIX века, когда в канал сбрасывали сточные воды, находиться рядом можно было только зажав нос.
В произведениях Ф. М. Достоевского канал пренебрежительно именуется «канава». Дважды, в 1870-е и в 1910-е годы, поднимался вопрос о необходимости засыпки канала и устройстве на его месте бульваров с прокладкой линии конной железной дороги, а позднее – трамвая. Но, к счастью для нас и последующих поколений, канал остался на месте и по-прежнему вдохновляет поэтов и художников, горожан и приезжих неожиданными романтическими картинами на многочисленных поворотах.
Справа открывается вид на собор Воскресения Христова, построенный на месте убийства Александра II и более известный, как Спас на Крови. В основе проекта архитектор Альфред Александрович Парланд использовал мотивы русских церквей XVI – XVII веков. Внутри сохраняется «сень» – фрагмент решётки ограждения канала, обагрённой кровью императора, поэтому храм как бы «надвинут» на канал. Главным украшением собора, безусловно, стали мозаичные картины, выполненные мозаичистами под руководством братьев Александра и Владимира Фроловых.

Канал Грибоедова. Спас на Крови
В мастерской Фроловых освоили прогрессивный для того времени «венецианский» способ набора мозаики, что сокращало время и соответственно удешевляло процесс. Это позволило братьям выиграть конкурсы на наружное и внутренние оформление собора.
После 1917 года советские власти решили, что мозаичное искусство обслуживало «отживший культ» и пролетариату оно чуждо. Однако, благодаря настойчивости архитектора Алексея Николаевича Щусева при сооружении гранитного мавзолея Ленина, эту точку зрения пришлось изменить – знамена в траурном зале мавзолея были выполнены в мозаике. Эта работа была поручена Владимиру Александровичу Фролову, который в это время руководил мозаичной мастерской Академии художеств в Ленинграде. Мозаика вновь получила признание на самом высоком уровне – мозаичными картинами стали украшать станции Московского метрополитена. Ленинградские мозаичисты, руководимые Фроловым, блестяще справились с оформлением плафонов станции «Маяковская». На очереди были картины для «Новокузнецкой», «Павелецкой» и станции «Завод имени Сталина», но началась война. В осажденном городе без тепла и света, обессиленные от голода, мозаичисты продолжали выполнять правительственное задание. В феврале 1942 года Фролов, оставшийся без помощников, закончил набор, упаковал и отправил готовый заказ в Москву, а через два дня после этого скончался. Только в 2011 году на «Новокузнецкой» появилась мемориальная доска, свидетельствующая о беспримерном подвиге ленинградцев.

Спас на Крови, фрагмент
Строительство храма по разным причинам растянулось на 25 лет и было закончено лишь в 1907 году.
Обогнём собор и мимо Михайловского парка выйдем к Марсову полю.
Угловое здание слева, выходящее фасадами на Мойку и на Марсово поле, со скруглённым углом было построено в 1823 году архитектором Доменико Адамини и под именем архитектора вошло в городскую топонимику.
В разные времена в доме проживали выдающиеся люди, среди которых изобретатель электромагнитного телеграфа Павел Львович Шиллинг, писатели Леонид Андреев, Вера Панова, Юрий Герман, архитектор Андрей Оль, филолог Карл Грот, артист балета Николай Легат. В подвале этого дома в 1915 году открылось театр-кабаре «Привал комедиантов», куда перебрались завсегдатаи «Бродячей собаки».
Марсово поле, бывшее весь XIX век плац-парадом Лейб-гвардии Павловского полка, в 1917 году стало местом захоронения жертв февральской, а потом и октябрьской революции. В советское время, до 1944 года, Марсово поле так и называлось – площадь Жертв революции.
Уже в 1919 году Ленинский план монументальной пропаганды начинает воплощаться в жизнь – по проекту архитектора Льва Александровича Руднева над могилами павших революционеров был создан мемориал, а другой архитектор, Иван Александрович Фомин, превратил безжизненный плац в цветущий оазис. В 1957 году здесь был зажжён первый в стране вечный огонь.
Вдоль Марсова поля выйдем к Садовой улице и Летнему саду, который во все времена был излюбленным местом отдыха петербуржцев. Пётр I не случайно велел устроить здесь свою летнюю резиденцию – оно уже было расчищено и обихожено шведским майором Конау для своей мызы.
Уже к 1710 году Летний сад украшали около 30 мраморных скульптур, были устроены разные «затеи»: гроты, павильоны, лабиринты. И, конечно, фонтаны, приводившие Петра в неописуемый восторг. Число фонтанов год от года неуклонно росло (в 1725 году – 20, а в 1736 году – 50 фонтанов).
В ноябре 1778 года один купец, разбогатевший на винных откупах, устроил в Летнем саду бесплатное угощение для народа, выставив горы различной еды и, конечно, бочки с пивом, вином и водкой. Пьяное веселье закончилось трагически – более 400 человек замёрзли, либо были убиты и ограблены по дороге домой.
Каждое лето, в Духов день, в Летний сад привозили молоденьких барышень, будущих невест. Мамаши с дочками чинно прогуливались по дорожкам, а профессиональные сводницы, прячась за деревьями, брали девушек на заметку.
Справа за Мойкой и Садовой улицей возвышается Михайловский замок, перед южным фасадом которого установлен конный памятник Петру Великому, работы скульптора Бартоломео Карло Растрелли, отца выдающегося архитектора. Постамент украшают горельефы на темы морских баталий, выполненные скульптором Михаилом Козловским.
Михайловский замок был построен по велению Павла I в кратчайшие сроки с 1797 по 1800 годы. Автором проекта был видный архитектор Василий Иванович Баженов, впавший в немилость при матушке Екатерине. Из-за преждевременной кончины Баженова строительство осуществил архитектор Винченцо Бренна, одним из помощников которого был молодой Карл Росси.
 Михайловский замок
Михайловский замок
Со всех сторон замок был окружён водой. Подъемные мосты, заряженные пушки, гренадёры с зажженными факелами – как будто собирались отражать нападение вражеской армии. Ещё один ров был прорыт на месте нынешней Инженерной улицы и через него также был перекинут подъемный мост. Это место обозначают два симметричных красивых здания, предназначавшихся для караула – кордегардии (Инженерная, 8 и 10).
Всего 40 дней прожил Павел в новой резиденции – не спасли ни рвы, ни пушки.
Через несколько лет «пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец» обрёл хозяина в лице Инженерного училища и стал именоваться Инженерным замком.

Кордегардия. На заднем плане – цирк Чинизелли.
Выйдем на Инженерную улицу и слева откроется вид на первое в России здание крытого цирка (Инженерная, 12), построенное в 1877 году архитектором Василием Александровичем Кенелем. Чтобы получить разрешение на строительство владелец цирка, Гаэтано Чинизелли, обязывался в течение 60 лет платить городу по 1000 рублей, а после передать цирк в городскую собственность. Кроме этого он обещал сломать деревянное цирковое здание своего тестя Карла Гинне на Манежной площади и на его месте устроить сквер с фонтаном, что и было выполнено.
Цирк вмещал 5000 зрителей, причём для «чистой» публики было предусмотрено 1200 мест в партере, а остальные, отгороженные барьером, вынуждены были смотреть представления стоя на террасированной галерее.
А в первой половине XVIII века на этом месте был, так называемый, Слоновый двор. Экзотических животных, подарок персидского шаха, обслуживали персы – «слоновые мастера», место проживания которых стало называться «караван-сарай». Отсюда возникло название Караванной улицы.
Слону был определён годовой рацион, состоявший из: «сухого тростника – 1500 пудов, пшена сорочинского – 137 пудов, сахара – 38 пудов, соли – 45 пудов, шафран, корица, кардамон, орехи и кроме того 40 вёдер виноградного вина и 60 вёдер водки». История сохранила записки «слоновых мастеров» о том, что «к удовольствию слона водка не удобна, ибо явилась с пригорью и некрепка».
 Михайловский манеж
Михайловский манеж
Пересечем Инженерную улицу и пройдём по Кленовой аллее, как бы обрамлённой императорскими конюшнями слева и манежем справа. Эти здания, как и кордегардии, входили в комплекс императорской резиденции и были построены в одно время. В 1820-х годах Карл Иванович Росси перестроил и богато украсил торцы этих зданий со стороны Манежной площади, открыв, таким образом, великолепную перспективу на Инженерный замок.
Но в 1908 году, с постройкой Офицерского корпуса Его Императорского Величества Конвоя (Манежная площадь, 4), перспектива исчезла.
Михайловский манеж в 1949 году был перестроен в крытый Зимний стадион – крупнейшее на то время спортивное сооружение в Европе. Трибуны вмещали 2 тысячи зрителей, а при проведении соревнований по боксу, гимнастике, баскетболу и концертно-зрелищных мероприятиях – около 5 тысяч.
В 1914 году в центре сквера на Манежной площади установили конный памятник великому князю Николаю Николаевичу-старшему, главнокомандующему Дунайской армией во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. На постаменте из красного гранита с каждой стороны были помещены горельефы с изображениями битв при Шипке и Плевне. В 1918 году памятник отправили на переплавку.
В 1998-1999 годах скверу вернули облик начала XX века – восстановили фонтан и ограду, а к 300-летию города установили 4 бюста знаменитых архитекторов Санкт-Петрбурга итальянского происхождения: Карла Росси, Антонио Ринальди, Джакомо Кваренги и Бартоломео Франческо Растрелли.
Очень красивое здание в стиле итальянского палаццо появилось на Манежной площади в 1916 году (Караванная, 12). Архитекторы Константин Семенович Бобровский и Борис Яковлевич Боткин построили его для Петроградского губернского кредитного общества. На парапете двое крылатых львов охраняют картуш несущий на себе загадочное изображение трех шаров, древнего символа ростовщиков. Скульптурную композицию выполнил скульптор Александр Евстафьевич Громов.