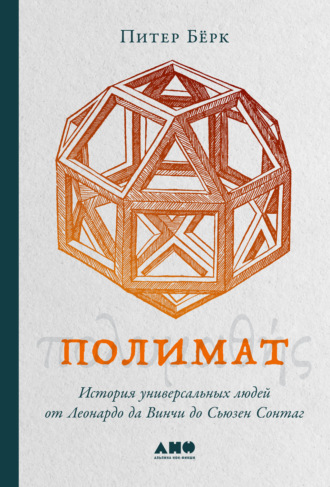
Питер Бёрк
Полимат. История универсальных людей от Леонардо да Винчи до Сьюзен Сонтаг
Исламский мир
Еще одним поводом для подозрений, которые Герберт вызывал у Уильяма, было то, что тот получил знания у мусульман (a Saracenis). Когда Герберт учился в Каталонии, это действительно было так. К тому времени ученые арабского, турецкого и персидского происхождения возродили гораздо больше из греческого наследия, чем было доступно западноевропейцам. Греческие тексты переводились на арабский и персидский языки напрямую либо через тексты христианских ученых, владевших сирийским языком. Некоторые из наиболее образованных людей исламского мира X – XII веков составляли комментарии ко многим трудам Аристотеля (или тем, что ему приписывались) и вполне могли вдохновляться его примером и подражать ему в широте знаний.
В арабском языке есть фраза со значением, аналогичным слову «полимат»: tafannun fi al-'ulum – ученый, чьи познания имеют «множество ветвей» (mutafannin). Однако, хотя набор дисциплин, которыми должны были овладеть арабские ученые, был похож на западный, различия все же существовали. Falsafa довольно точно переводится как «философия». В самом деле, это одно и то же слово, перешедшее из греческого в арабский, в то время как Fikh переводится как «право», а Adab более-менее соответствует греческому paideia, означающему «воспитание благородного ученого» (Adib). Интеллектуальный багаж такого образованного человека «обычно состоял из внушительного набора наук и искусств эпохи: сплетения религиозных учений, поэзии, филологии, истории и литературной критики, дополненных основательным знакомством с естественными науками, от арифметики до медицины и зоологии»[59].
Взгляды великого ученого Ибн Халдуна (о его собственных достижениях речь пойдет ниже), который писал, что хорошему секретарю «необходимо озаботиться знакомством с главными направлениями знания»[60], похожи на представления Квинтилиана об ораторе и Витрувия об архитекторе. В то время дисциплинами, наиболее отличными от западных, были толкование Корана (Tafsir), изучение текстов о словах и делах Мухаммеда (Hadith) и то, что мы бы назвали фармакологией (Saydalah). Что касается классификации знаний, то она включала в себя такие категории, как «рациональное знание» (al-'ulum al-'aqliyya) и «ученость древних» (al-'ulum al-awa'il).
Исламских ученых также называли «совершенными» (kāmil). Предполагалось, что «многогранность была качеством, к которому стремились все ученые мужи»[61]. В медресе, школах при мечетях, такая разносторонность поощрялась: ученики могли легко переходить от одного наставника (shaykh) к другому. В одном из исследований, посвященных средневековому Дамаску, утверждается, что «идеалом считалось свободное освоение разных наук у разных учителей, а не специализированное обучение отдельным предметам»[62].
Вклад отдельных полиматов, подобных тем, о которых говорилось выше, оценить очень трудно, если не невозможно. И в исламском мире, и на средневековом Западе преобладало мнение, что задача ученого состоит в передаче традиционного знания, а не чего-то нового. Хотя были и эмпирические исследования, и даже открытия, большинство научных трудов представляли собой комментарии к книгам ученых-предшественников. В любом случае в культурах рукописных книг индивидуальному авторству придается гораздо меньшее значение, нежели в обществах, где существует книгопечатание. Сочинения учеников могли ходить под именем их учителя, а переписчики зачастую с легкостью опускали или, наоборот, вставляли целые отрывки в текст, над которым работали (в некоторых трактатах встречаются проклятия в адрес писцов, искажавших текст таким образом).
Среди широко образованных ученых исламского мира есть четыре выдающиеся личности, жившие в IX – XIV веках (по западному летоисчислению): аль-Кинди, Ибн Сина (более известный под именем Авиценна), Ибн Рушд (Аверроэс) и Ибн Халдун[63].
Аль-Кинди (801–873) был родом из Басры и учился в Багдаде. Он писал о философии, математике, музыке, астрономии, медицине, оптике и различных шифрах, а также о производстве стекла, ювелирном деле, изготовлении доспехов и ароматов – областях прикладного знания, в чем был близок к китайскому ученому Су Суну, о котором шла речь выше. Один из авторов XIV века описывал аль-Кинди как «разностороннего человека», овладевшего «философией во всех ее частях»[64]. В недавнем исследовании тоже отмечается «невероятная широта интересов аль-Кинди»[65]. И совсем не удивительно, что некоторые его сочинения изучал Леонардо да Винчи.
Ибн Сина (ок. 980–1037) был родом из Бухары. Еще подростком он получил разрешение от Мансура II пользоваться огромной библиотекой эмира. Ибн Сина, прозванный Князем врачей, прославился своими работами по медицине и критическим комментарием к Аристотелю. В возрасте двадцати одного года он составил энциклопедию (Kitab al-Majmu), а затем перешел к работе еще над двумя трудами такого рода. Первый из них, «Канон врачебной науки» (Al-Qanun), был посвящен медицине. Во втором труде, «Книге исцеления» (Al-Shifa), автор предпринял попытку излечить людей от невежества, растолковывая и разъясняя логику, физику, метафизику, математику, музыку и астрономию. Ибн Сина также писал о географии и поэзии. Он изучал и одновременно критиковал алхимию. Также он занимался практической юриспруденцией и был визирем у эмира земель, которые сейчас являются частью Ирана[66].
Ибн Рушд (Аверроэс, 1126–1198), уроженец Кордовы, был врачом и судьей. Благодаря своему грандиозному начинанию – комментарию ко всем сочинениям Аристотеля – он получил прозвище Комментатор. Он также написал собственные труды по риторике, поэтике, астрономии, медицине, философии, математике и музыке[67].
После Ибн Рушда в списке исламских эрудитов возникает довольно большая лакуна – вплоть до появления Ибн Халдуна (1332–1406). Он родился в Тунисе, жил в Фесе и Гранаде, а умер в Каире. Свои труды он писал в перерывах между тремя успешными карьерами: политической (в качестве дипломата и придворного советника), юридической (в качестве судьи) и академической (в качестве преподавателя). На целых четыре года Ибн Халдун удалился в один из замков на территории современного Алжира, чтобы написать свой шедевр – труд под названием «Введение» (Muqaddima), содержащий ряд общих наблюдений и являющийся предисловием к «Книге поучительных примеров» (Kitab al-'ibar), в которой он изложил историю мусульманского мира. «Введение» ценится как вклад в социологию и политическую науку, хотя таких дисциплин во времена автора еще не существовало. Рассуждая в категориях того времени, мы можем сказать, что этот труд стал возможен благодаря обширным познаниям автора в географии, философии, теологии и медицине, а также его тонкому пониманию истории и таланту к обобщениям. Большой потерей для западного мира было то, что, в отличие от своих предшественников, Ибн Халдун был там неизвестен на протяжении долгого времени. Рукопись его главного труда была привезена в Лейден в XVII веке, но первые переводы на европейские языки появились лишь в XIX, а заслуженное признание в западном мире пришло к Ибн Халдуну только в XX столетии[68].
Высокое Средневековье
Бернарду Шартрскому, ученому XII века, приписываются слова о том, что он и его коллеги-ученые «подобны карликам, стоящим на плечах гигантов», иными словами, греков и римлян. Возможно, корректнее будет сказать, что средневековые европейские схоласты стояли на плечах мусульманских ученых, а те, в свою очередь, на плечах древних. В эпоху раннего Средневековья задача ученых состояла в спасении и сохранении того, что осталось от классической традиции. Позже стало необходимо не только возродить античное знание, которое было утрачено, но и освоить новое, накопленное исламским миром.
Главным новшеством этого периода, начиная с XI столетия, было основание университетов, главным образом в Болонье и Париже, что институционально оформило комплекс наук. Студенты должны были изучать семь свободных искусств – упомянутые выше тривиум и квадривиум. Дисциплины для окончивших этот курс включали теологию, право и медицину, необходимые для профессиональной подготовки духовенства, юристов и врачей. Несмотря на эти ранние признаки специализации, многие средневековые ученые придерживались традиции универсального образования. Наиболее выдающимися среди них были шестеро: Гуго Сен-Викторский, Винсент из Бове, Альберт Великий, Роберт Гроссетест, Роджер Бэкон и Раймунд Луллий[69].
Первые двое прославились своими энциклопедиями. Монах Гуго Сен-Викторский (ок. 1096–1141) был родом из Саксонии, но работал в Париже. Он писал о теологии, музыке, геометрии и грамматике, но известен главным образом своим «Дидаскаликоном» (Didascalicon), энциклопедией, поделенной на части в соответствии с тремя типами знаний: теоретическими (например, такими как философия), практическими (куда входит политика) и «механическими» (включающими, помимо прочего, архитектуру и навигацию)[70]. Доминиканский монах Винсент из Бове (ок. 1190–1264) составил вместе с помощниками энциклопедию «Великое Зерцало» (Speculum Maius, 1235–1264), опираясь как на тексты исламских авторов, в частности Ибн Сины, так и на сочинения древних греков и римлян. Как и «Дидаскаликон», энциклопедия Винсента состояла из трех частей; в данном случае они были посвящены знаниям о природе, теории и истории. Свободные и «механические» искусства, право и медицина были включены в раздел «теории»[71].
Два полимата этой эпохи были англичанами: это Роберт Гроссетест (ок. 1175–1253) и Роджер Бэкон (ок. 1214 – ок. 1292). Роберт, епископ Линкольна, несомненно, получил прозвище Большая Голова (Grosseteste) за свои многочисленные и обширные познания. Он преподавал философию и теологию в Оксфорде, написал первый латинский комментарий к Аристотелю, но наиболее известен своими трудами по естествознанию – о звездах, свете, цвете, происхождении звуков, солнечном тепле и, вероятно, о приливах. Считается, что он «первым из известных нам мыслителей назвал рефракцию причиной появления радуги»[72]. Позднее он выучил греческий язык и стал одним из немногочисленных западных ученых, им владевших[73].
Возможно, Роджер Бэкон, монах-францисканец, был учеником Гроссетеста. Он учился и затем преподавал философию и теологию в Оксфорде, но тоже получил известность благодаря исследованиям природы, от астрономии до оптики и алхимии. Как и (позднее) Леонардо, он пытался построить летательный аппарат[74]. Благодаря трем францисканским миссионерам Роджер из первых рук получал актуальные сведения о монголах, чьи стремительные завоевательные походы в те годы наводили ужас на европейцев[75]. Он также писал работы по математике и языкознанию. О том, что современники считали Бэкона полиматом, свидетельствует легенда (аналогичная той, которую мы приводили выше в связи с Гербертом Орильякским): в его кабинете якобы стояла бронзовая голова, которая отвечала на все вопросы. Подобные мифы о полиматах имеют очень давнюю историю.
Самыми амбициозными из средневековых полиматов были, конечно, Альберт Великий и Раймунд Луллий. Альберта Великого (ок. 1200–1280) не следует путать с Альбертом Саксонским (ок. 1316–1390), который внес весомый вклад в логику, математику и физику. Альберт Великий, монах-доминиканец из Германии, прославился при жизни как «универсальный доктор» (doctor universalis) или «сведущий доктор» (doctor expertus), и эти прозвища подтверждают широту и глубину его знаний. Один из студентов Альберта назвал его «человеком, настолько подобным Богу в каждой из наук (vir in omni scientia adeo divinus), что его по праву можно именовать чудом и сокровищем нашего века»[76]. Альберт изучал теологию, философию, алхимию, астрологию и музыку, прокомментировал все известные труды Аристотеля и был знаком с работами некоторых ведущих ученых исламского мира. Он проводил наблюдения за растениями, изучал минералы и составил их собственную классификацию. Говорили, что у него была статуя (как сегодня сказали бы, робот), которая, может, и не отвечала на вопросы, как бронзовые головы в кабинетах его коллег Герберта и Роджера, но могла двигаться и говорить «здравствуй» (salve).
Что касается каталонца Раймунда Луллия (1232–1316), его разнообразные познания отразились в сочинениях – в общей сложности их насчитывается около 260, причем в это число входят два романа, книга об искусстве любви и «Древо Знания» (Arbor Scientiae), – в том, что он выучил арабский язык, прежде чем отправиться миссионером в Северную Африку, и, что самое главное, в его книге «Великое искусство» (Ars Magna, 1305–1308), которую Умберто Эко назвал системой «совершенного языка», предназначенного для «обращения неверных»[77]. В «Великом искусстве» Луллий использует логику, риторику и математику, чтобы научить читателя находить, запоминать и представлять аргументы, комбинируя различные понятия с помощью кругов (техника, известная как ars combinatoria, явно позаимствованная у арабских астрологов, использовавших устройство под названием «заирджа»). Три столетия спустя идеи Луллия привлекут внимание величайшего полимата XVII столетия Готфрида Вильгельма Лейбница. Стоит ли говорить, что в эпоху компьютерных технологий интерес к рассуждениям Луллия о комбинаторике неуклонно растет[78].
2
Эпоха «человека Возрождения»
1400–1600
В Европе XV – XVI столетий количество информации, циркулировавшей в обществе, быстро нарастало. В русле движения, которое мы теперь называем Возрождением или Ренессансом, ученые трудились над восстановлением античных греческих и римских знаний, утраченных в период Средневековья. Исследователи и завоеватели неизведанных до тех пор частей Европы, Азии и обеих Америк тоже привозили с собой новые знания о мире, в то время как изобретение книгопечатания позволяло и старой, и новой информации распространяться быстрее и дальше. Тем не менее в этот период у некоторых ученых сохранялась возможность определять, что именно должно преподаваться и изучаться в университетах, курс которых включал теперь не только упомянутые выше средневековые тривиум и квадривиум, но и studia humanitatis, пять гуманитарных наук – грамматику, риторику, поэзию, историю и этику, – способствовавших, как предполагалось, приближению студентов к идеалам гуманизма.
Однако при мысли об эпохе Ренессанса мы обычно вспоминаем не только ученых, но и художников, и прежде всего так называемого универсального человека эпохи Возрождения, столь часто фигурирующего в названиях исследовательских работ[79]. Как мы уже видели, о полиматах XX столетия, в том числе Бенедетто Кроче, Герберте Саймоне и Джозефе Нидеме, говорили как о последних представителях этого «вида». Отождествление широко образованных людей с эпохой Возрождения – во многом заслуга великого швейцарского историка культуры Якоба Буркхардта.
В своей знаменитой работе «Культура Италии в эпоху Возрождения» (Die Kultur der Renaissance in Italien), впервые опубликованной в 1860 году, но регулярно переиздаваемой по сей день, Буркхардт представил нескольких выдающихся деятелей эпохи – Франческо Петрарку, Леона Баттисту Альберти, Джованни Пико делла Мирандолу и Леонардо да Винчи – как примеры «всесторонних» или по крайней мере «многосторонних» личностей (der allseitige Mensch, der vielseitige Mensch)[80]. Называя их «гигантами», Буркхардт особенно подробно останавливается на двоих: Альберти и Леонардо.
Другие авторы XIX века пишут о выдающихся личностях эпохи Возрождения сходным образом. Еще до Буркхардта французский историк Эдгар Кине писал о Леонардо: «Гражданин всех миров… анатом, химик, музыкант, геолог, импровизатор, поэт, инженер, физик»[81]. После Буркхардта и, по-видимому, вторя ему, Джордж Элиот в романе «Ромола» (Romola, 1862–1863) восхваляет Альберти: «…сильный универсальный ум, одновременно практический и теоретический, художник, ученый муж, изобретатель, поэт»[82].
Идеал универсальности
Идеал разностороннего, или универсального, человека (uomo universale) появился именно в эпоху Возрождения. Один из великих итальянских учителей XV века, Витторино да Фельтре, «часто хвалил то универсальное образование, которое греки называли encyclopaedia, говоря, что ради пользы товарищей совершенный человек должен уметь рассуждать о натурфилософии, этике, астрономии, геометрии, гармонии, арифметике и топографии». Его идеалом было знание «многих и разных наук»[83]. Персонаж диалога о «гражданской жизни» (la vita civile), написанного флорентийцем Маттео Пальмиери, задается вопросом: «Как человек мог бы изучить множество вещей и сделать себя универсальным (farsi universale) во многих прекрасных искусствах?»[84] Знаменитым воплощением идеала универсального человека был Фауст. Герой оригинальной немецкой «Книги о Фаусте» (Faustbuch) 1587 года «обладал неутолимой жаждой знаний»[85].
В этих определениях идеала универсального человека главное место занимает научное знание, центральная тема нашей книги. Другие варианты еще более амбициозны и требуют от человека способностей и умений как в деятельной жизни (vita activa), так и в созерцательной (vita contemplativa): в те времена это противопоставление часто уподоблялось различию между «оружием» и «словом»[86]. Есть и определения, предполагающие, что универсальный человек должен быть сведущ в изящных искусствах. Например, во впервые опубликованном в 1528 году диалоге Бальдассаре Кастильоне о придворном один из персонажей говорит, что идеальный придворный должен не только уметь обращаться с оружием и быть «образованным выше среднего» (più che mediocremente erudito) в гуманитарных науках, но и владеть искусством танца, живописи и музыки[87].
Идеал универсального человека нашел отражение и в рыцарском романе императора Максимилиана «Белый король» (Weisskunig, 1505–1516), написанном за несколько лет до книги Кастильоне. Герой этого сочинения искусен в каллиграфии, свободных искусствах, магии, медицине, астрологии, музыке, живописи, строительстве, охоте, военном и даже плотницком деле, а также владеет одиннадцатью языками[88]. Француз Франсуа Рабле живо описывает многостороннее образование в вымышленных биографиях своих персонажей – великанов Гаргантюа и Пантагрюэля. Гаргантюа изучал не только свободные искусства, но и военное дело и медицину, а когда на улице шел дождь, отправлялся наблюдать, как работают ремесленники. Своему сыну Пантагрюэлю он советовал учиться так же: осваивать свободные искусства, право, медицину и естествознание, короче говоря, «бездну знаний» (un abysme de science)[89].
В Англии история представлений об универсальном знании восходит к началу XVI столетия: первопечатник Уильям Кэкстон упоминает об «универсальном человеке, сведущем почти во всех науках»[90]. Идеал разностороннего человека сформулировал сэр Томас Элиот в «Книге, именуемой Правитель» (Book Named the Governor, 1531) – трактате об образовании юношей из высшего сословия. Элиот не только рассуждает о том, что называет «кругом учения», которому должны следовать студенты, но и пишет, что джентльмену полагается уметь сочинять музыку, писать красками и даже ваять, а не только изучать академические дисциплины[91]. Однако этот образ благородного любителя, уже заметный в «образованном выше среднего» герое Кастильоне, следует отличать от идеала, которым руководствовались люди, подобные Альберти, стремившиеся преуспеть во всем, чем занимались.
Миф об универсальности
Несмотря на приведенные выше яркие примеры, можно сказать, что Буркхардт и некоторые его современники преувеличивали самобытность того интеллектуального «вида», который называли универсальным человеком или человеком Возрождения (вопрос о женщине эпохи Возрождения мы рассмотрим чуть ниже). Не все процитированные свидетельства современников настолько ясны и однозначны, как это может показаться на первый взгляд. Например, Кастильоне в своем диалоге позволяет другим персонажам оспаривать многостороннюю образованность, осуждая людей, которые «все время пытаются делать вещи, о которых ничего не знают, игнорируя при этом то, в чем разбираются» (традиционно считается, что этот пассаж содержит намек на Леонардо)[92].
Кроме того, «гаргантюанская» в буквальном смысле образовательная программа, описанная Рабле, часто всерьез воспринимается как выражение ренессансного идеала, но в ней можно усмотреть и пародию на этот идеал. Что касается Фауста, его неуемная жажда знаний в оригинальной «Книге о Фаусте» осуждалась как пример духовной гордыни. Доктор Фауст представлен в ней не как герой, а как образ-предостережение. Осуждение любознательности богословами, например Августином, в XVI веке по-прежнему воспринималось всерьез.
Сам Буркхардт тоже был разносторонним человеком: он писал стихи, делал зарисовки и играл на фортепиано, а также преподавал и писал книги по истории и истории искусства (в его время в немецкоязычной ученой среде эти две дисциплины стали самостоятельными). Как историк Буркхардт не хотел специализироваться на конкретном периоде и писал об истории культуры Греции, эпохе Константина Великого и (в лекциях, опубликованных уже после его смерти) о том, что считал мировым кризисом своего времени. Поэтому неудивительно, что его привлекали такие разносторонние фигуры, как Альберти и Леонардо, и он хотел видеть в них типичных представителей эпохи – золотого века, предшествовавшего железному веку интеллектуальной и культурной специализации. В этом смысле Буркхардт внес свой вклад в то, что мы ранее определили как «мифологию полиматов»[93].
Существует множество определений мифа. В том, которому мы будем следовать в этой книге, выделяются две главные черты. Это история о прошлом, которая рассказывается, чтобы оправдать или осудить ситуацию в настоящем, а также история, в которой протагонисты больше, чем просто живые люди. Сама история может быть полностью вымышленной, но не обязательно лживой. Под шелухой преувеличений в ней часто содержится зерно истины. Давайте посмотрим, жили ли люди той эпохи согласно идеалу универсального человека и до какой степени им это удавалось.


