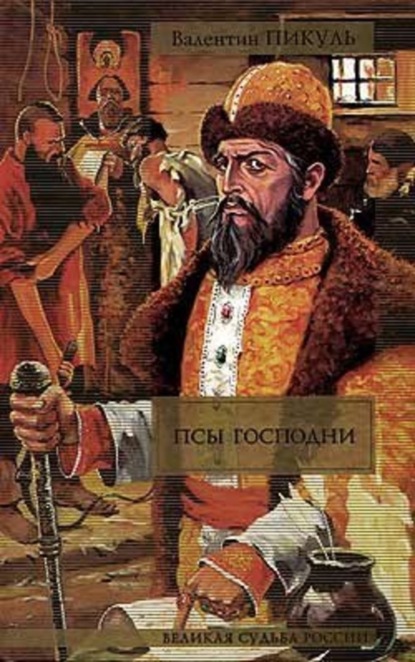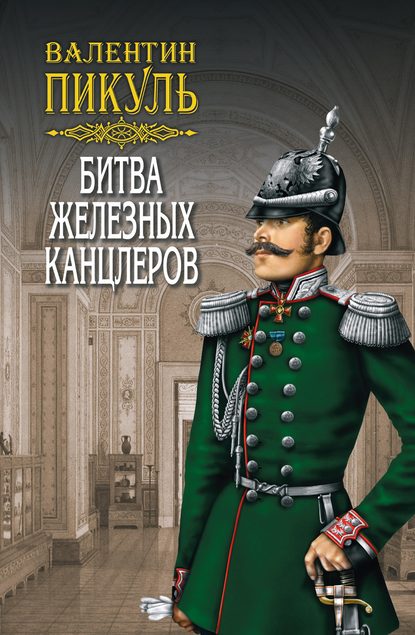- Рейтинг Литрес:4.3
- Рейтинг Livelib:4.5
Полная версия:
Валентин Саввич Пикуль Кровь, слезы и лавры
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Валентин Пикуль
Кровь, слезы и лавры
Генрих Карл Штейн был министром Пруссии.
– Мы, немцы, – говорил он, – давно чего-то жаждем, но, чтобы утолить жажду, осуждены глотать собственные слезы. Я боюсь не за Пруссию – я давно страдаю за всю Германию!
В канун своего позора Берлин оставался слишком заносчив. Кухарки выбивали стекла в здании посольства Наполеона, а самоуверенный (но еще не знаменитый) генерал Блюхер нахально затачивал свою саблю на ступеньках того же посольства:
– Смерть французам! Наполеона утопим в Рейне…
Королева Луиза показывалась народу в костюме «орлеанской девственницы». А солдат – ради воодушевления – толпами, словно баранов, загоняли в королевский театр, чтобы они набрались мужества от просмотра шиллеровского «Валленштейна». Пасторы в храмах столицы открыто возвещали прихожанам:
– Наполеон еще не изведал силу Пруссии! К чему нам ружья? Достаточно шпицрутенов, чтобы гнать его генералов, вчерашних лавочников и сапожников. Одни лишь мы, пруссаки, имеем полководцев, живущих по заветам «старого Фрица»…
Наполеон одним взмахом уничтожил Пруссию при Йене, и в день погрома лишь три человека догадывались, в чем секрет его успехов, – это были Шарнгорст и Гнейзенау, а с ними и молодой Клаузевиц, любимый ученик Шарнгорста. Зато вот пылкий Блюхер, угодивший в плен, еще ничего не понимал:
– Французы для меня хуже пьяных лягушек. Как эти лягушки смогли повалить могучего прусского буйвола?..
Наполеон сознательно унижал Пруссию; во дворце Сан-Суси он забрал для себя кабинетные часы «старого Фрица».
– Вы уже достаточно ими полюбовались, – беспардонно заявил он немцам. – Теперь эти часы короля Фридриха Великого станут отсчитывать новое время – время моего величия…
Пруссия, жившая славой былых побед, считалась в Европе самой непобедимой, и тем страшнее были бедствия пруссаков. Наполеон превратил побежденных в поставщиков денег и продовольствия для армии Франции, со смехом он признавал:
– Кажется, я выжал из них целый миллиард…
Им руководила непомерная жадность к господству над всеми европейцами, желание превратить их в рукоплещущие ему толпы и чтобы никто не смел сомневаться в его гениальном величии. «Подчинись мне, или ты будешь мною растоптан!» – таков был основной девиз его оккупационной политики.
Реформы по оживлению гнилого прусского организма проводил министр Штейн; давний выученик Геттингена и поклонник Адама Смита, он считал, что «государство не может процветать, если в нем обездолена личность человека…».
– Человек и государство едины, составляя общее целое. Но без слияния народа с правительством, – доказывал Штейн, – невозможно существование никакого государства.
Все это было слишком ново для жителей Пруссии, издавна приученных надеяться, что за них думают короли.
– Армия, – предупреждал Штейн, – это тот же народ, и армия не имеет права быть игрушкой в руках королей…
Рассуждая так, министр не питал никаких иллюзий относительно патриотизма прусского юнкерства:
– Что можно ожидать от породы племенных скотов, выведенных в хлевах династии Гогенцоллернов! Бессердечные, полуграмотные люди, они способны быть только капралами в казармах или крохоборами в своих помещичьих фольварках.
Юнкера платили Штейну той же монетой.
– Лучше, – говорили они, – пережить еще два разгрома при Йене, нежели облизывать мед с бритвы Штейна. Мы скорее поладим с интендантами-обиралами Наполеона, чем с министром, выпускающим на волю наших крестьян…
В декабре 1808 года появился декрет Наполеона: «Некий Штейн, занимающийся в Германии возмущением смут, объявляется врагом Франции… владения (Штейна) подлежат секвестру. Лично помянутый мною Штейн, где бы он ни был настигнут войсками нашими или наших союзников, подлежит заарестованию».
– Передайте в Берлин, – наказал император. – Сен-Марсан не вручит королю верительных грамот, пока Штейн не будет изгнан из Пруссии, и дайте понять моему послу, что мне желательно получить Штейна живьем. Я его расстреляю…
Когда такое начало я прочел своему приятелю, он сказал, чтобы я не связывался с «фон-унд-цум» Штейном:
– Ну, допустим, я его немножко знаю. А… другие? Из истории освободительной войны 1813 года у нас давно известны лишь имена Блюхера, Клаузевица, Шарнгорста и Гнейзенау. Но, помилуй, кто из наших читателей слыхал о Штейне?
На это я отвечал, что почти все перечисленные имена, столь громкие в немецкой истории, позже были отчеканены на броне кайзеровских и гитлеровских крейсеров (как императоры, так и нацисты старались подчеркнуть свою мнимую причастность к героям-патриотам старой Германии).
– Но заметил ли ты, – сказал я приятелю, – что имя Штейна не засияло на бортах крейсеров и дредноутов. Ни кайзеры, ни фюреры не желали связывать себя с его личностью, ибо популярность Штейна всегда казалась слишком опасной. Нам иногда нелегко осмыслить все трагическое величие этого человека, которого поняли лишь немецкие демократы.
– Тогда продолжай, – согласился приятель…
Я продолжаю. Германия была разрознена, а вечная вражда между Австрией и Пруссией усиливала немецкую разобщенность. Монахи, епископы и всякие фюрсты не могли возглавить народы в борьбе с Наполеоном: напротив, они, словно жалкие побирушки, гурьбою толпились в передних «корсиканца», вымаливая у него земли за счет соседей, денежные дотации за счет своих же ограбленных подданных, они умоляли деспота о пенсиях и орденах… Штейн именовал князей Германии «мелюзгой» и «сволочью». В это безотрадное время немецкая профессура возрождала угасший патриотизм немцев комментариями к старинным легендам Рейна или сказкам Одера, а посему Штейн не очень-то доверял и тогдашней германской учености:
– Наши мыслители очень далеки от жизни народа, их мудрость давно не в ладах с обычным человеческим здравомыслием. Философия словно нарочно выискивает такие точки зрения на вещи, с каких на эти же вещи никогда не смотрит нормальный человек, ежедневно озабоченный добыванием куска хлеба насущного… Что касается нашей литературы, то я не вижу пользы от ее высокопарных фантазий. Нужна простецкая песня о любви к родине!
Великий философ Гегель уж нарек Наполеона «мировым духом верхом на коне», а великий поэт Гете с поклоном принял орден Почетного легиона от человека, разорившего его Веймар. Германский романтизм витал в заоблачных грезах, боясь спуститься на землю, обильно унавоженную массовыми рейдами непобедимой мюратовской кавалерии. Прусский король Фридрих-Вильгельм III, это жалкое подобие властелина, пресмыкался перед Наполеоном, внушая своим генералам и министрам: «С ним лучше не спорить, ему не стоит и возражать, ибо Наполеон – гений». В это время только одна захудалая Испания геройски погибла в пламени и руинах Сарагосы, да еще на востоке, незаметно и без лишнего шума, Россия накапливала силы для решающей битвы с удачливым узурпатором…
Пятого января 1809 года французский посол граф Сен-Марсан втайне повидался с голландским послом в Берлине:
– Вы, конечно, знакомы с декретом Наполеона, требующего ареста Штейна. Я боюсь встречаться со Штейном, ибо за мною тоже следят из Парижа, но вам это легче. Предупредите Штейна, чтобы он немедленно скрылся. Мне известно, что его сестра уже арестована и вывезена в Париж для допросов.
– Чем же Штейн вызвал гнев вашего императора?
– Шпионы перехватили его письмо, из которого Наполеон уяснил, что гражданские реформы Штейна, как и военные, скоро возродят Пруссию для борьбы с ним. По мнению Штейна, если Пруссию не смогла спасти королевская армия, теперь ее спасет народное ополчение – ландвер и ландштурм…
Предупрежденный об опасности, Штейн не слишком-то верил в благородство своего олуха короля:
– Этому трусу ничего не стоит выдать своего же министра в дикастерию палача Фуше… Надо бежать! – сказал Штейн жене, прощаясь с нею. – Берега Швеции или Англии для меня сейчас недоступны, но еще остались владения Габсбургов…
Однако на пути к Вене его остановил указ императора Франца: «Поставьте на вид барону Штейну, чтоб он, если желает иметь пребывание в моих владениях, поселился в Брюнне и вел бы себя там скромно, иначе будет удален из страны».
– Человек, лишенный отечества, поневоле становится отбросом общества, – трезво рассуждал Штейн…
Да! Если в Пруссии народ расступался перед ним, в знак почитания снимая шляпы, то здесь, в зловещей империи Габсбургов, Штейна сторонились, словно он был проклят. С ним боялись даже разговаривать. Но уже восстали тирольцы, потомки Вильгельма Телля, а весною началась новая война. Наполеон в битве при Ваграме уничтожил войска Австрии, и Штейну, чтобы его не схватили французы, пришлось спасаться в силезском Троппау. Именно в этом городе возникла его дружба с молодым русским дипломатом Сергеем Уваровым (книга которого о Штейне была напечатана в нашей стране в 1846 году).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.