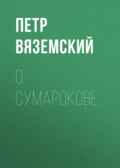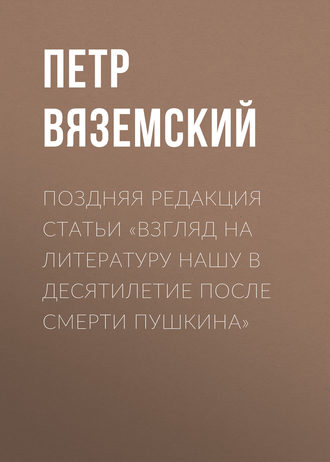
Петр Вяземский
Поздняя редакция статьи «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина»
Между тем когда на Западе грамотность или письменность вообще распространяется, творения собственно литературные падают более и более. В то самое время, когда литераторы перерождаются в публицистов и в политические лица, выделывая в литературы, то есть из журналистики, ступень для достижения парламентской трибуны, а от нее префектуры или министерского кресла, политические лица, депутаты, министры силою обстоятельств и общего давления втягиваются в журнальную и письменную деятельность. Там редко найти литератора, который был бы не что иное, как литератор, и довольствовался бы этим званием. Исключений так мало, что они в счет не входят. Из известных мне во Франции, может быть, и есть только одно исключение, достойное особенной отметки. Это Сент-Бев. Едва ли не он один остался верен свободному, бескорыстному и наследственному служению[1]. Еще назвать могу одно исключение, которое встречал я в Париже и в Риме, а именно поэта-булочника Ребуля (Reboul). Это замечательная личность и по дарованию, и по добродушию и нравственным качествам. Впрочем, позднее и он был оторван от хлеба насущного и от хлеба духовного, но не надолго: он был в округе своем избран в члены представительного собрания. Впрочем, куда ни посмотри, в Англии, в Германии, а в особенности во Франции литература ныне не что иное, как средство и орудие. Некогда могучая и самобытная республика письмен (la rèpublique des lettres) занимает в настоящее время в статистике всемирной место едва ли не уступающее в значении и силе республике Сан-Марино, которую не заметил и, следовательно, не проглотил и сам Наполеон I. Все, что ныне читается с жадностию, разве это литература в прежнем смысле этого слова? Священнослужение обратилось более или менее в спекуляцию и промышленность. Кто ныне пишет поэмы? Куда девалась трагедия? Сколько различных родов пиитики и статей литературного уложения пропало без вести! Исторические творения, как пишут их ныне Тьер, Ламартин, Луи Блан, Мишле, даже литературные курсы, какие преподаются, например, парижскими профессорами, разве все это чистая и бескорыстная литература? Везде из-под литературной оболочки проглядывают политика, дух партий, задние мысли, гражданские и социальные утопии и прочее вовсе не литературное.
Тут вспомнишь Крылова:
Сосед соседа звал откушать,
Но умысел другой тут был.
и прибавишь:
Сосед политику любил
И звал политики послушать.
История, роман, поэзия, все это перегорело в политический памфлет разных видов, целей и размеров. Все это может быть и потребность или прихоть времени. Вовсе не слушать этих потребностей и прихотей неуместно и невозможно. Вполне победить их трудно, но слепо прислуживать им и рабски повиноваться не следует. Во Франции о литературе даже почти не упоминается. Это слово вытеснено другим: «la presse», то есть «печатность». Выражение материального значения заменило выражение, имевшее более нравственное значение. Это не случайность, а полный смысла признак настоящего времени. Вещественность поборола духовность, и побежденная не иначе может проявляться, как под знаменем своей победительницы. Еще за двадцать пять лет тому Вальтер Скотт, Байрон, Манзони были явления возможные. Голос их раздавался во всех концах образованного мира. Новый роман – и, заметьте, роман не политический, не социальный, – новая поэма, новая драма были события в общественной жизни. Они возбуждали повсеместное внимание и сочувствие. Старик Гёте читал и изучал молодого Байрона, Байрон изучал Гёте; о публике, о большинстве образованных читателей и говорить нечего. Великие художники держали в руке своей умы и сердца очарованного ими поколения. Ныне очарования нет. Времена чародеев минули. Сила и владычество вымысла и художественности отжили свой век. Ремесленники слова этому радуются и празднуют падение идеальных предшественников. Капища опустели, говорят они: теперь на нашей улице праздник. Спросим: многие ли ныне пишут потому, что в груди их волнуются и роятся образы, созвучия, которые невольно и победительно просятся в формы, в картину, в жизнь искусства, в отвлеченное, но живое воссоздание мира, жизни духовной и вместе с тем жизни действительной? Кто пишет для того, что ему в силу воли и закона природы необходимо и сладостно разрешиться от бремени, таящегося и зреющего в груди его? Гёте, Шиллер были бы очень неуместны в нынешней Германии. Им было бы неловко и как-то совестно. Можно предположить сбыточность всех возможных преобразований в Италии, но есть ли возможность предположить, что в ней явятся новый Тассо, новый Ариосто? Тот же Манзони, написав один превосходный роман, заперся в молчании своем. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и другие знаменитости, старшая ветвь литературного дома, бессознательно подготовившие нынешнюю Францию, возвратись они на землю, не признали бы законными наследниками своими младшую ветвь, воцарившуюся во французской литературе. Вольтер и Руссо отреклись бы от потомков своих. Мы видим, что железные дороги частью уже упразднили, а со временем и окончательно упразднят бывшие путевые сообщения. Другие силы, другие пары давно уже уволили огнекрылатого коня, который ударом копыта высекал животворные потоки, утолявшие благородную и поэтическую жажду многих поколений. Ныне Пегас – та же кляча Россинант, на которой разъезжал рыцарь печального образа, и поэт в наше время едва ли не тот же Дон Кихот.