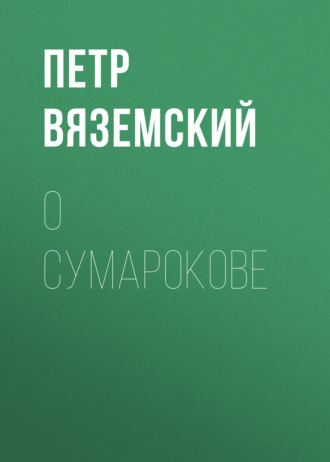
Петр Вяземский
О Сумарокове
Сумароков одно из замечательнейших лиц в литературе нашей. Он имеет свою физиогномию, означенную резкими чертами: это лицо портретное. Его нельзя изучать как образец изящного, как памятник искусства; он ни в чем не оставил нам уроков, следов к подражанию; действия его были, так сказать, единовременные; язык его, слог его, формы его, им самим заимствованные у чужестранцев и даже не примененные к нравам нашим и к историческим преданиям, – все это в наше время почти без цены. Творения Сумарокова более упоминаются или поминаются, чем читаются ныне. Везде, где он был только автор и поэт, он едва ли пережил себя, за весьма немногими исключениями; но там, где отделяется личность его, он везде еще свеж и ярок, потому что он горячо и откровенно передавал свою раздражительность, когда обстоятельства приводили ее в игру. Поэтому как полемик Сумароков еще жив, хотя предметы его полемики уже и не возбуждают соучастия нашего. Сумароков, вероятно, почитал себя русским Вольтером и по примеру образца своего покушался омногосложить свое дарование. Но если он обманулся в расчетах авторского тщеславия, то не менее того имел он нечто вольтеровское, а именно его раздражительность, несколько его сатирической горячности, которые нимало не назидательны, но часто забавны и увлекательны. Тяжба между им и Ломоносовым давно решена, и, за исключением нескольких остроумных замечаний [со стороны Сумарокова] об языке нашем, нечему научиться из фактов сей забытой тяжбы; но все еще любопытно читать их, потому что личность Сумарокова в них сказывается. То же можно сказать и о войне его с Тредьяковским, прибавив, что здесь тяжба решена забвением, насильственною мировою сделкою, скрепленною потомством, которое отказалось от Сумарокова и от Тредьяковского; но апелляции существуют. Особливо же забавны памфлеты его против подьячих; хотя они также уже чужды нам по содержанию своему, но драгоценны и ныне по истине и силе чувства и по патриотизму, их одушевляющим. Они уже не трепещут интересом минуты, но еще трепет гнева, но авторский жар еще в них сохранились. Можно сказать решительно, что нет на русском языке ничего забавнее, ничего подходящего ближе к так называемым FacИties Вольтера, как некоторые из статей Сумарокова, напечатанные в последних томах сочинений его. В этом отношении мы мало порадовались бы открытию новых, не напечатанных чисто литературных или поэтических произведений Сумарокова, не надеясь найти в них опровержений умеренного мнения нашего о таланте его. Но находка биографических и характеристических памятников о нем может нас порадовать, нас, для коих старина наша так еще нова, а любопытство так сильно, ибо мы, разделяя общую европейскую жадность к запискам историческим или анекдотическим, должны довольствоваться чужими сплетнями, за неимением своих. Две бумаги Сумарокова, здесь предлагаемые, живо отражают его запальчивость, необузданность, сатирические и комические выходки ума его. Достоверность этих фактов не подвержена сомнению. Подлинник жалобы на Ломоносова отыскан в бумагах Миллера надорванный, вероятно в присутствии. Сохранен ли он как любопытный документ или как свидетельство, могущее повредить Ломоносову? Предоставляем другим решить недоумение, заметив, однако же, что Ломоносов и Миллер были врагами. В рассуждении другой бумаги для очистки памяти Демидова от нареканий в бессовестном жестокосердии должно упомянуть, что этот Демидов, заимодавец Сумарокова, был, по дошедшим преданиям, проказник и что, вероятно, он единственно для шутки, хотя и неумеренной, хотел напугать Сумарокова и вывести его из терпения. По крайней мере таково мнение некоторых из современников той эпохи. Знавшие Сумарокова любили иногда вызывать разражительность и комические взрывы гнева его. Нам случилось читать в одних записках, что Павел I, еще в малолетстве часто видавший его за столом своим, забавлялся его способностью сердиться. Однажды с умыслом хвалил он при нем недавно вышедшие творения Лукина, которого Сумароков не любил; "Однако же на этот раз, – говорит сочинитель помянутых записок, – Александр Петрович был довольно смирен". Это выражение, напоминающее уму свойство ребяческое, очень мило, сказанное о Сумарокове, и, кажется, живо изображает характер его. Следовательно, бывал он иногда и очень не смирен. Замечательно также в письме его к Потемкину приказание сего последнего написать трагедию без рифм. Это показывает проницательность и оригинальность ума Потемкина, который, и не бывши автором, требовал уже от драмы нашей новых покушений, не довольствуясь исключительным подражанием узким формам трагедии французской. Таким образом, Потемкин, по крайней мере желаниями и соображениями, должен занять почетное место в романтической нашей школе.







