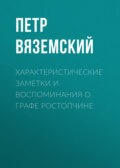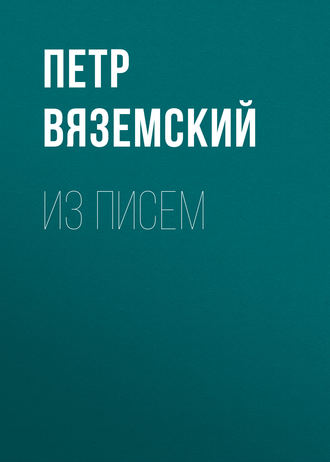
Петр Вяземский
Из писем
А. И. Тургеневу. 19 января 1836 года. Спб.
‹…› Вчера Гоголь читал нам новую комедию «Ревизор»: петербургский департаментский шалопай, который заезжает в уездный город и не имеет чем выехать в то самое время, когда городничий ожидает из Петербурга ревизора. С испуга принимает он проезжего за ожидаемого ревизора, дает ему денег взаймы, думая, что подкупает его взятками, и прочее. Весь этот быт описан очень забавно, и вообще неистощимая веселость; но действия мало, как и во всех произведениях его. Читает мастерски и возбуждает un feu roulant d'éclats de rire dans l'auditoire. Не знаю, не потеряет ли пиеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает. Он удивительно живо и верно, хотя и карикатурно, описывает наши moeurs administratives. Вигель его терпеть не может за то, что он где-то отозвался о подлой роже директора департамента. У нас он тем замечательнее, что, за исключением Фон-Визина, никто из наших авторов не имел истинной веселости. Он от избытка веселости часто завирается, и вот чем веселость его прилипчива. Русская веселость, например, веселость Алексея Орлова и тому подобная, застывает под русским пером. Форма убивает дух. Один Жуковский может хохотать на бумаге и обдавать смехом других, да и то в одних стенах Арзамаса. Дмитриев тот ли письменно, что изустно? Я один, может быть, исключение, то есть был прежде исключение из этого правила: я задорнее письменно, нежели словесно, да и то именно письменно (у меня чернила, как хмель, забирают голову), а не печатно. Когда готовлюсь к печати, то и я уже умничаю, а не завираюсь, и для меня печатный станок есть та же прокрустова кровать. И тут дело идет не о цензуре: цензура сама по себе, а просто рука сжимается и пальцы холодеют, не так, как у старика Белосельского, про которого старик Мятлев говаривал, что он очень умный человек в разговоре, но жаль, что у него горячка в трех пальцах правой руки. Вот еще убедительный пример: Алексей Михайлович Пушкин. На словах он был водопад веселости, оригинальности: так и заглушит, так и захлещет, забрызжет бурными волнами веселости своей, так и подымает; начнет писать – и все это сольется в ручей, который тут же и замерзает. ‹…›
В. Л. Жуковскому. 4 ноября 1844 года. Спб.
‹…› Я поручил Плетневу отправить к тебе записки Порошина, некогда тобою изданные в извлечении. Они возбудили здесь общее внимание. Замечательные и рослые были тогда люди. Нынешний народ обмелел, не в укор будь сказано Порошину новейших времен. Меня восхищает в этой книге уже одна толпа собственных имен. Наши книги все безыменные, безличные (часто в полном смысле безобразные), безлюдные. А тут живая галерея, хотя и не полных портретов, а силуэтов, но все-таки внимание возбуждается и останавливается. Мы совершенно подкидышем как-то отыскались раз под капустою. Не только дедов, но и отцов своих не знаем. А многие еще утверждают, что любят отечество, и, может быть, и любят по-своему. Да и как и что любить? Истории, преданий своих не знают, языка не знают, нравов, обычаев также, русского духа и разнюхать не могут. Для иного отечество его департамент, министерство, для другого – и этот еще благоразумнее – его саратовская деревня, для некоторых – военная слава России. Но тут еще нигде нет отечества. А многие еще нас укоряют, что мы не любим отечество или не так его любим, потому что иное осуждаем, другому огорчаемся. О смерти чиновника говорить будут с жаром и умилением, хотя со смертью его только и разницы, что мундир его впялят на другие плеча. Смерть Баратынского – безмолвною и невидимою тенью проскользнула в этом обществе высших патриотов. ‹…›