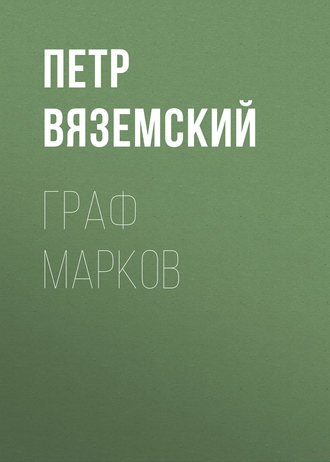
Петр Вяземский
Граф Марков
Когда Французская республика, по праву сильного, победоносным своим мечем межевала свои и чужие земли, Рейн утвержден был границею между Франциею и Европейскими державами к востоку. Мера сия, на одних победах основанная, победами могла только быть и опровергнута; но тогда слава Наполеона была еще неприкосновенною; он возвращался из Маренго, а не с острова Эльбы; Европа безмолвствовала и все Германские принцы, имевшие владения на левом берегу Рейна, были беспощадно обобраны для округления Французской границы. Одна Россия могла защитить угнетаемых. Графу Маркову препоручена была сия трудная негоциация, которая, после долгих прений с Французским министром Талейраном, стараниями Российского дипломата увенчана была совершенным успехом, и доставила всем лишенным своих владений принцам вознаграждения в других странах Германии[2]. На замечание, сделанное одним знаменитым Французским генералом, в тех же переговорах участвовавшим, что России не должно-бы вмешиваться в приобретения, купленные Французской кровью, Марков сделал следующее прекрасное возражение: История передаст потомству, что Французская республика с оружием в руках завоевала такие-то земли; но та-же История прибавит также, что стараниями и великодушием Российского императора владельцы оных земель были вознаграждены за свои потери. Не трудно догадаться, что в конце 1811 года и в начале 12-го, когда война между Франциею и Россиею, так сказать, чуялась в воздухе и угрожала не только нам, но с нами и всей Европе, задорный Марков должен был быть большим её поборником. Авторитет его, сильная и меткая речь подстрекали в войне Московское общественное мнение. До Карамзина дошли слухи о воинственных разглашениях его; весь тогда преданный историческому труду своему, он редко выезжал из дома, и не посещал общества, был знаком с Марковым и уважал его, но не был с ним в близких сношениях. Однажды, после обеда, собирается он выехать: это удивило домашних. Спрашивают его: куда он едет? – К Маркову. – За чем? – Мне любопытно услышать и узнать, как умный человек может, в настоящем положении нашем, желать войны с Наполеоном. Он отправился. Часа два беседовал он и спорил с Марковым о предстоящем жгучем вопросе. Разумеется и как обыкновенно водится, каждый, не вполне убедив другого, остался при своем мнении. А жаль, что не было тут стенографа, который записывал бы прения. Впрочем, на деле выходит, что тот и другой были относительно правы. Карамзин не желал и просто страшился войны, потому что не признавал нас готовыми в ней. Против этого сказать нечего. Марков был самонадеяннее, смелее, и, следовательно, неосторожнее, но смелым Бог владеет, а особенно Русский бог, который не всегда бывает богом благоразумия и предусмотрительности: странные бывают противоречия в жизни и в истории. Карамзин знал Россию, умственно вырос в ней и возмужал, изучил ее; Марков знал ее мало и более поверхностно: любил ее более политически, чем любовью семейною, сыновнею. Образование его, склад ума, дипломатическая деятельность, дипломатические навыки и способности отчуждали его от Русской среды и Русских партий. Карамзин любил Россию чистою, глубокою, кровною, вместе с тем и просвещенною любовью, а в последствии оказалось, что прав был Марков, а не Карамзин. Провидение, или случай, который Блудов называет инкогнито Провидения, любит иногда подобными нечаянностями озадачивать человеческую мудрость и как будто подсмеиваться над нею.







