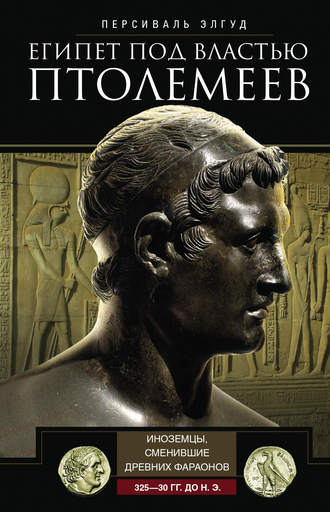
Персиваль Элгуд
Египет под властью Птолемеев. Иноземцы, сменившие древних фараонов. 325–30 гг. до н.э.
Глава 3
Птолемей Филадельф
285-47 гг. до н. э.
Филадельф[12], сын Птолемея Сотера и его жены Береники, родился под счастливой звездой. В возрасте двадцати пяти лет он оказался на троне, его право на который не оспаривали другие претенденты, и наслаждался наследством, свободным от каких-либо обязательств. Но это было не единственным, в чем ему повезло. Филадельф был молод, здоров и обаятелен, обладал приятной внешностью и прекрасными манерами. Но все эти качества не способны облегчить жизнь правителя, если, конечно, не сочетаются с такими важными для него чертами, как здравомыслие и сильный характер, которыми Птолемей Филадельф вряд ли обладал в первые годы своего царствования. Полностью поглощенный стремлением доставлять удовольствие и получать его, молодой царь отлынивал от исполнения более важных обязанностей. Возможно, причиной тому был не только он сам – окружение, в котором он провел первые годы своей жизни, было способно погубить любого. Рожденный зимой 309/308 г. до н. э. на острове Кос, он провел детство в окружении целой толпы обожавших его женщин.
Когда любимая жена Птолемея Береника родила сына, сам царь на это никак не отреагировал. Новорожденный был всего лишь одним из многочисленных детей, как законнорожденных, так и побочных, претендовавших на то, чтобы называться его отпрысками, и Птолемей не обращал внимания на росших во дворце малышей. Но до правителя Египта быстро дошли слухи, и он приказал жене вернуться в Египет и привезти ребенка, но было уже слишком поздно. В Александрии младенец превратился в эгоистичного капризного мальчика, и Птолемей, решив, что лучше всего характер сына исправит учеба, стал подбирать ему наставника.
Недостатка в кандидатах не было – свои услуги поспешили предложить практически все обитатели Мусейона, и Птолемей, рассматривая список претендентов, должно быть, оказался в замешательстве. С одной стороны, он должен был определить, кто из них более достоин обучать царевича, а с другой – понять, кому ему следует доверить это дело – философу, поэту или филологу. Следуя сложившейся в Македонии традиции, он должен был выбрать первого, но личные пристрастия вынуждали его остановиться на втором. Раньше Птолемей не медлил бы, но теперь он стал царем и лишился части своей уверенности. Философы отказались от слепого следования максимам Аристотеля. Сложилась новая школа, представители которой сомневались в божественности права на престол, в существовании людей, превосходящих в чем-то остальных. Тогда, доверившись своей интуиции, Птолемей выбрал Стратона из Лампаска и Филита Косского, которые должны были учить мальчика вместе. Но наставники были не способны что-либо изменить. Первый был врачом, а к науке Птолемей питал настоящую слабость. Грамматик Фи-лит был настолько немощным, что везде носил с собой груз, не позволявший ветру поднять его на воздух.
Следуя традиции, Птолемей сообщил придворным о восшествии на престол Филадельфа и призвал войско, чтобы оно утвердило его выбор. В Македонии эта церемония проходила быстро и без особых изысков. Солдаты выстраивались таким образом, чтобы кавалерия находилась справа, тяжелая пехота – в центре, а легкая – слева. Кандидат проезжал верхом вдоль строя, а затем возвращался и выслушивал вердикт. Птолемей не собирался придумывать что-то другое, но ситуация изменилась и простота вышла из моды.
В правление Птолемея Сотера Александрия была крайне унылым местом, и греки с ностальгией вспоминали веселую жизнь в Афинах и Коринфе, на каждой улице которых толкались гетеры и атлеты, философы и матроны. Они могли только сделать выбор между посещением театра или рассматриванием молодых девушек, двигавшихся в процессии в сторону храма Афродиты. Эти развлечения можно назвать по меньшей мере малосодержательными, и жители Александрии завидовали своим более удачливым египетским соседям, обитавшим за ее пределами. В их календаре было множество дней, посвященных различным божествам, и эти крайне религиозные люди старательно соблюдали все связанные с этими датами ритуалы и обычаи. «Тогда почему же, – шептались греки, – Птолемей так скуп на разные праздники и торжества?» Их разочарование росло еще и из-за того, что они зарабатывали деньги, которые их женщинам не терпелось потратить. Даже египтянам, населявшим Ракотис, один из кварталов Александрии, жилось ненамного лучше. Их сородичи, обитавшие по всему Египту, в том числе в Мемфисе и Фивах, постоянно отмечали тот или иной праздник, и только жители Александрии не могли последовать их примеру.
Заметив это недовольство и поддавшись стремлению давать и получать удовольствие, Филадельф решил отметить свое восшествие на престол, устроив нечто большее, чем скромный парад. Он собирался предложить александрийцам зрелище более великолепное, чем то, которое они могли увидеть в любом греческом городе, пышное торжество, главным участником которого должен был стать он сам. Отца эта его идея, впрочем, не очень впечатлила. Будучи рассудительным и бережливым македонянином, он полагал, что деньгам можно найти лучшее применение, чем организация развлечения для пустоголовых людей. По его мнению, лечь в постель без ужина было лучше, чем проснуться бедняком. Но он был стар, и спор утомил его, вследствие чего Филадельф добился своего.
Это празднество было первым и самым пышным из многочисленных торжеств, которые он устраивал на протяжении всего своего длительного царствования. Неподалеку от стадиона на высоте в 15 локтей был растянут огромный навес, под которым должны были разместиться выдающиеся иноземцы. Он был украшен малиновыми драпировками, а земля под ним была посыпана лилиями и розами, благодаря чему гостям, когда они шли к своим ложам, казалось, будто они находятся на прекрасном лугу. Поприветствовал посетителей Птолемей, Береника и Филадельф заняли свои места в пышной процессии, и она сдвинулась с места. Вереницу египетских и греческих богов, в том числе вынесенных из храмов изваяний Осириса и Птаха, Диониса и Зевса, возглавил Люцифер, утренняя звезда, а замыкал Геспер, вечерняя звезда.
Дальше шли силены, одетые в пурпурные и красные наряды, затем следовала компания сатиров, за которыми шли мужчина огромного роста, державший в руках золотой рог Амалфеи, и женщина поразительной красоты, несшая в одной руке пальмовую ветвь, а в другой – венок из персеи. Затем следовало изваяние сидящего на золотом троне Диониса в полный рост, которое несли 180 рабов. Его сопровождало множество жрецов, жриц и новопосвященных, а за ними несли изображение спальни Семелы, супруги бога. Вино лилось рекой, а музыка то затихала, то снова начинала играть. Каждый участник шествия казался зрителям более удивительным, чем предыдущие. Все соглашались, что такой великолепной процессии не было никогда прежде и не будет никогда впредь.
Но самое захватывающее зрелище было впереди. За всеми этими мифологическими персонажами следовала процессия зверей и птиц, никогда прежде не виденных в Египте. Сначала шла сотня массивных слонов, запряженных в колесницы по четверо, за ними следовали многочисленные буйволы, антилопы, сернобыки, страусы, гну, зебры и козы, на которых восседали мальчики, одетые колесничими, и, наконец, львы, пантеры, тигры, носорог и белый медведь. За животными шествовали слуги, которые несли попугаев, павлинов и фазанов из Эфиопии, скотники, которые вели быков из Индии, Аравии и с Кавказа, и пастухи, пригнавшие овец из Греции и Эфиопии.
Затем в шествии наметился небольшой перерыв. Радостные крики и перешептывания стихли, ведь приближалась царская семья. Наконец на улице появились Птолемей, Береника и Филадельф, шедшие за изваянием Александра, сделанным в полный рост. В толпе раздались радостные крики. Возгласы стали еще громче, когда прошел слух о том, что на голове Птолемея надета корона из 10 тысяч золотых деталей, затем зрители увидели другие золотые короны и венки на головах пажей и придворных дам, повозки, нагруженные золотом, и серебряный кратер, громыхавший позади одной из них. Процессия обошла город кругом, вернулась к стадиону, где задержалась для последнего действа. Птолемей в сопровождении телохранителя вышел в центр арены и получил от представителей стран и городов, освобожденных Александром от персидского владычества, в подарок золотые короны, которые должны были служить напоминанием о великой услуге, оказанной выдающимся полководцем всему миру.
Это стало прощальным жестом Птолемея, умершего уже через несколько месяцев. Смерть мудрого и доброго правителя оплакивали все жители Египта. Когда встал вопрос о месте, где должно быть погребено его тело, александрийцы были единогласны. Сема, построенная для того, чтобы стать гробницей Александра, тело которого все еще находилось в золотом саркофаге в Мемфисе, оставалась пустой, и македонские солдаты, последовавшие когда-то за Птолемеем в Египет, громко кричали, что их предводитель должен покоиться там же, где он жил. Сема стояла в центре города, выходя фасадом на улицу, на которой располагался храм Тюхе. Спустившись по лестнице в подземелье, благочестивый странник попадал, пройдя через некое подобие атриума, в саму гробницу. Над погребением возвышалась прекрасная часовня, к которой примыкали второстепенные святилища.
Ритуал погребения обоих тел, сопряженный с последним путешествием двух царей, первый из которых заложил этот город, а второй – достроил, получился крайне трогательным. Но эта церемония не была единственным проявлением сыновней любви Филадельфа к отцу – молодой царь провозгласил умершего богом-спасителем, установил в его честь государственный культ и приказал проводить в каждом четвертом году праздник в честь Птолемея Сотера. Александрийцы вполне одобрительно отнеслись к решениям Филадельфа и его пониманию сыновнего долга. Отец, ставший при жизни героем, заслужил приобщение к числу олимпийских богов после смерти. Ни греки, ни египтяне не видели ничего кощунственного или безосновательного в посмертном обожествлении, что подтвердил на практике и сам Птолемей, обожествив Александра. Конечно, в каждом из этих двух случаев обожествления некоторую роль играла политика. Первый представитель династии Птолемеев стремился объединить греков и египтян, а его сыну необходимо было упрочить права своего семейства на египетский престол.
Тем временем в эллинской ойкумене снова разразилась война. Как и предвидел Птолемей, союз между Лисимахом и Селевком долго не продержался. Из всех диадохов, деливших в Вавилоне державу Александра, в живых остались только эти двое. Первый из них правил к северу от Геллеспонта, а второй – к югу от него. После гибели Антигона в битве при Ипсе в 201 г. до н. э. два оставшихся в живых диадоха были заняты объединением своих владений, а Лисимах, добавивший к Фракии Македонию, надеялся заключить с Птолемеем полезный для себя союз, женившись на его дочери Арсиное. Позже, чтобы еще больше укрепить узы, связывавшие две семьи, Лиси-мах предложил женить Филадельфа на другой Арсиное – его дочери от Никеи, и Птолемей с готовностью согласился. Этот брак был очень удачным с точки зрения возраста и положения жениха и невесты, которая к тому же имела собственные причины для того, чтобы вступить в него. На Македонской ярмарке женихов Филадельф был весьма ценным товаром, общество египетских придворных привлекало девушку больше, чем компания суровых фракийцев, к тому же замужество позволяло ей вырваться из когтей чересчур властной мачехи[13]. Что касается Филадельфа, то его положение не позволяло ему возражать. Вопрос о престолонаследии не был еще решен, и Керавн, все еще находившийся в Александрии, надеялся, что Птолемей сделает своим наследником именно его. Брак мог бы получиться не таким удачным, но молодым людям было вполне комфортно вместе. Арсиноя родила мужу троих детей: Птолемея, прозванного Эвергетом, Лисимаха и дочь Беренику, впоследствии вышедшую замуж за правителя Сирии Антиоха, сына Селевка.
Затем, в 281 г. до н. э., разразилась настоящая буря. Селевк и Лисимах набросились друг на друга и оба погибли в этой борьбе. Ответственность за смерть Селевка лежит на Керавне. Когда вопрос о престолонаследии решился в пользу Филадельфа, тот, стряхнув с себя египетскую пыль, стал подначивать Селевка напасть на Египет. Но правитель Сирии, нацелившийся на захват Египта, не сдвинулся с места, и Керавн обратился к Лисимаху, при дворе которого ему могли быть рады, ведь царицей там была его сводная сестра Арсиноя, а родная сестра Лисандра являлась женой Агафокла, сына и наследника царя. Но там широко были распространены и заговоры, убийства и клевета. Лисимах был марионеткой собственной жены, а Агафокл – ее доверенным лицом, а возможно, и любовником. Но потом любовники рассорились, Агафокл был казнен, а его вдова Лисандра бежала к Селевку.
Этот ее поступок стал удобным поводом для правителя Сирии выступить против Лисимаха. Враги встретились в битве при Курупедионе в Лидии (281 г. до н. э.). Удача отвернулась в тот день от Лисимаха, и Селевк неторопливо двинулся в Европу. Он уже принял решение: Македонией он собирался править самостоятельно, Фракию хотел отдать детям Лисандры, а Сирию и Месопотамию – завещать своему сыну Антиоху. Правда, знаменитый милетский оракул советовал ему поступить иначе. «Не пересекай Геллеспонт, – сказал он Селевку. – Азии для тебя должно быть достаточно». Лучше бы он прислушался к словам оракула, ибо едва он двинулся в Европу, как погиб от руки Керавна. Затем, водрузив на свою голову корону, убийца призвал выживших в битве при Курупедионе, чтобы те признали его своим царем. Но ему следовало побороть могущественных врагов, среди которых оказалась его сводная сестра Арсиноя, считавшая, что на трон должны претендовать дети, рожденные ею от Лисимаха, и Керавн решил покончить со всем этим семейством. Однако Арсиноя укрылась в Кассандрии, и он не смог до нее добраться.
Время поджимало. Против Керавна выступили еще один претендент на македонский престол Антигон Гонат, внук диадоха Антигона, и сын Селевка Антиох. Это заставило сына Птолемея сменить тактику. Он предложил своей сводной сестре выйти за него замуж и обещал назначить наследником ее старшего сына. Арсиноя поспешно согласилась с этим предложением, и это был единственный раз, когда ее интуиция дала сбой. Пройдя через никем не охранявшиеся ворота, Керавн оказался в Кассандрии, убил двух младших детей Арсинои, а ее саму заставил бежать в Самофракию. Это убежище было не очень безопасным, и Керавн уже собирался преследовать жену, когда вторжение галлов в Македонию заставило его задуматься о собственной безопасности. Он выступил против захватчиков, но потерпел поражение и лишился жизни.
В Самофракии овдовевшая Арсиноя II смогла найти только убежище и ничего больше. На острове царица, покинутая друзьями и лишившаяся мужа, оказалась самой несчастной из всех обездоленных женщин. И ждало ее отнюдь не самое светлое будущее. Македонию захватил Антигон Гонат, и выгнать его оттуда без могущественного союзника было невозможно. Арсиною охватило отчаяние; возможно, она даже рада была бы умереть. Затем ей в голову пришла мысль о повторном браке. Она все еще оставалась богатой и достаточно красивой, чтобы привлечь внимание потенциальных женихов. Но в том безумном мире, где она жила, добыть мужа с хорошей репутацией было сложно, поэтому Арсиноя решила искать не любовь, а новый дом. В ее сердце амбиции уже давно заняли место страсти, и она научилась всматриваться в будущее, опираясь именно на них.
Арсиноя не могла ничего предложить своим могущественным соседям – правителю Македонии Антигону Гонату и сыну Селевка Антиоху. Таким образом, оставался только ее брат Филадельф, при дворе которого она, по крайней мере, могла найти более безопасное убежище, чем в Самофракии. Женщина не сомневалась, что ее хорошо примут в Александрии. Они с Филадельфом всегда дружили. Когда он был мальчиком, Арсиноя обожала его и была готова продолжить любить уже взрослого мужчину. Она считала, что молодой и неопытный Филадельф, очевидно, нуждается в том, чтобы рядом с ним находилась проницательная женщина, и собиралась отправить скучную девчонку Арсиною I, жену брата и собственную падчерицу, заботиться о детях, в то время как сама она сохранит власть, влияя на царя из-за его трона.
В итоге вдова Лисимаха Арсиноя отправилась в Египет, где была с радостью встречена Филадельфом. Однако его жене не понравилось находиться под опекой мачехи, и некоторые придворные стали уговаривать ее не сидеть сложа руки. Арсиноя I неосмотрительно слушала эти разговоры, пока, разъяренная словами военачальника Аминты и врача Хрисиппа, не попала в ловушку. Начали ходить слухи, и Арсиноя II нанесла ответный удар, публично обвинив падчерицу в измене. Это ужасное слово испугало Филадельфа, и в итоге соучастников арестовали и казнили, а Арсиною I отправили в ссылку в Коптос, где бывшая царица провела остаток жизни. В ссылке женщине жилось очень тоскливо, и ее дни скрашивало лишь внимание Шену-Шера, верховного жреца и наместника, «человека расчетов, самого Тота в четкости», о котором говорится, что «не было красоты рядом с ним». Добрый Шену-Шер приказал вырезать на базальтовой плите текст, чтобы отдать дань уважения опальной царице, «владычице Обеих Земель, которая носит две короны, главной царской жене».
Таким образом Арсиноя расчистила себе путь и поспешно вышла замуж за своего брата Филадельфа. В глазах греков это был инцест, но Зевс некогда женился на собственной сестре Гере, и льстивые александрийские придворные приветствовали этот брачный союз. Только Деметрий Фалерский и поэт Сотад рискнули назвать его преступлением против богов, и оба дорого заплатили за свою опрометчивость. Обиженный неодобрением Деметрия, не стеснявшегося в выражениях, и разозленный грубыми остротами Сотада, Филадельф изгнал первого из Египта и приказал своему флотоводцу Патроклу утопить второго.
Что касается египтян, то они считали женитьбу на сестре не только законной, но и желательной, ведь она позволяла обеспечить божественность происхождения наследника престола. Эта традиция была настолько сильной, что права на престол дочери, рожденной главной женой царя, при отсутствии прямого наследника мужского пола были более весомыми, чем те, которыми обладал сын царской наложницы. Подобная практика находила подтверждение и в религии. Царь, женившийся на сестре, следовал примеру Осириса, взявшего в жены свою сестру Исиду.
В нашем распоряжении нет источников, рассказывающих о вопросах, связанных с этим браком. Не знаем мы и о том, в каких отношениях друг с другом находились супруги, хотя, скорее всего, они были братско-сестринскими, и, пока Филадельф предавался утехам с любовницами, Арсиноя занималась управлением государством. Но их брачный союз, по крайней мере, стал поводом для еще одного дорогостоящего празднества, во время которого царь олицетворял для греков Адониса, его жена и сестра – Афродиту, а для египтян они были Осирисом и Исидой. Таким образом, торжественная процессия знаменовала как земной союз, так и связь с божественным началом. Царскую чету, сидевшую на золотых тронах, пронесли по улицам города. Перед ними шли ставшие уже привычными жрецы, а за ними – столь же традиционные диковинные звери и птицы. Рядом с царским троном шли верховные жрецы храмов, причем некоторые из них несли драгоценные свитки Тота, а другие – изображения греческих и египетских богов. За царем и его супругой следовали многочисленные певцы, прорицатели, писцы, хранители храмовых одеяний, пророки и толкователи оракулов.
За этим празднеством последовали другие торжества. Жена Птолемея I и мать Филадельфа и Арсинои II Береника скончалась, и придворные тунеядцы стали перешептываться о том, что Исида перенесла покойную царицу на небеса. Праздник в честь Осириса стал удобным поводом для того, чтобы отметить данное событие, и венценосные супруги решили обставить это торжество с подобающей ему пышностью. Все жители города собрались, чтобы посмотреть на торжественную процессию и хотя бы мельком взглянуть на царя и царицу. Среди зрителей оказались две дамы – Горго и Праксиноя. Увидеть процессию было непросто – толпа была такой плотной, что женщинам с трудом удалось найти себе местечко. «Ах, злополучная я! – расстроилась Праксиноя. – Разорвала я летнее платье! – А затем задумчиво добавила: – «Наши все дома», – так сват говорит, заперев новобрачных»[14].
Наконец они смогли протиснуться, найти место и стали наслаждаться потрясающей процессией. Их выкрики и замечания сначала развлекали людей, стоявших по соседству, а затем стали их раздражать. «Да перестаньте, болтушки, трепать языком бесконечно», – потребовал один мужчина. Но дамы были родом из Сиракуз, а сиракузянки привыкли отвечать на оскорбления такими же выпадами. Горго[15] холодно взглянула на обидчика и с презрением в голосе поинтересовалась у подруги: «Что это? Кто ты такой? Мы болтливы?
Тебе что за дело?» Возможно, она сказала бы что-то еще, если бы певица из Аргоса не начала петь гимн в честь Адониса. Если в словах певицы отразилось общественное мнение того времени, то в тщеславии Филадельфа нет ничего удивительного – еще ни один смертный при жизни не удостаивался такой сладкой лести. «Мне ты сделал добро, Птолемей, – говорит Горго[16], – с той поры, как родитель / Твой сопричислен к богам!» Затем она прошептала на ухо подруге: «Ах, Праксиноя, подумай, не прелесть ли женщина эта? / Знает, счастливица, много и голосом сладким владеет». Торжество завершилось, но дамам еще было на что поглазеть, и они потеряли счет времени.
Внезапно Горго заметила, что время обеда уже прошло, и неожиданно осознала, что муж ждет ее возвращения. «Он и всегда-то как уксус, – отметила она, – а голоден – лучше не трогай». Собравшись уходить, дамы обернулись в сторону царского дворца и прокричали: «Радуйся, милый Адонис, и к нам возвращайся на радость!»
Это было последнее из дорогостоящих торжеств, проведенных при жизни Арсинои, разделявшей нелюбовь отца к показушничеству и его уверенность в том, что доходы государства можно потратить на что-то более подходящее, чем бесполезные праздники и процессии. Брат и сестра поспорили по этому поводу, но Арсиноя вышла из этого спора победительницей, и Филадельфу пришлось подчиниться, хотя он наверняка был этим крайне недоволен. Убедить царя в необходимости экономить было нелегко – он считал взгляды, которых придерживался его отец, старомодными и превратно толковал причины, заставлявшие сестру гордиться ими. Главной целью правителя, по его мнению, было увеличение популярности, а основной задачей – устроение пышных и радующих глаз зрелищ. Организованные им празднества ошеломляли зрителей и стали его настоящим триумфом – никогда прежде Филадельф не чувствовал себя царем в больше степени, чем тогда, когда играл роль Адониса, и он надеялся, что александрийцы разделяют это его ощущение. Но переубедить Арсиною было невозможно: доходы Египта не были неиссякаемыми, и суммы, потраченной на одно торжество, было бы достаточно, чтобы удвоить численность армии или в четыре раза увеличить количество кораблей в составе флота.
Арсиноя понимала: если границы Египта, нуждавшегося в новых рынках, расширятся, то потребуется большее число людей и кораблей. Первый представитель династии Птолемеев присоединил к своим владениям Кирену, Финикию, Келесирию и Киклады, и царица убеждала брата в необходимости захватить западное побережье Красного моря и пройти дальше – во внутренние районы. Этот поход позволил бы лишить державу Селевкидов контроля над торговлей с Востоком. До этого времени никто не был в силах нарушить данную монополию: караваны из Индии отправлялись в Дамаск через Вавилон, а арабы добирались туда же через Петру и Иерусалим. Появление безопасных гаваней в Красном море и дорог, соединяющих порты выгрузки с Нилом, могло убедить торговцев предпочесть длительным караванным перегонам более дешевый и быстрый морской путь. Затем Александрия должна была заменить Дамаск в роли центра, из которого восточные торговцы станут разъезжаться в нужных им направлениях, что позволит египетской казне значительно обогатиться за счет транзитных пошлин.
Новых доходов должно было хватить для того, чтобы содержать эскадры и гарнизоны, необходимые для удержания береговой линии, а экономия могла покрыть стоимость развития захваченных территорий. Для того чтобы объяснить на Востоке преимущество морского транспорта над наземным, Филадельф отправил Дионисия в очень опасное путешествие. Тот должен был добраться до Черного моря, обогнуть расположенное с ним по соседству Каспийское и, двигаясь по следам Александра, попасть к Инду. Кроме того, царь приказал ему узнать у индийских князей, смогут ли они продать Египту боевых слонов. В долине Нила не было ни одного подобного животного, а победа Селевка в битве при Ипсе убедительно доказала, что слоны способны сыграть важную роль в победе в бою. Вряд ли Дионисию удалось бы достичь успеха на этом поприще – индийские правители соблюдали непонятную верность Селевкидам, которые были последними из всех соседей Птолемея, кто согласился бы протянуть ему руку помощи.
К счастью, Индия была не единственной страной, на которую мог обратить взор правитель Египта, отправивший экспедиции на поиски новых «охотничьих угодий». Пока предводитель первой из них, Аристон, изучал берег Аравийского полуострова, проплыв через Красное море в Баб-эль-Мандебский пролив, лидер второй, Сатир, исследовал африканское побережье в поисках мест для стоянок на якоре, размещения гарнизонов и строительства дорог, изучал существующие порты и участки, где можно построить новые. Потом усталые странники, ковылявшие по пустыне, благодарили Филадельфа за его предусмотрительность. Одним из них стал Сотерик, отвечавший за добычу мрамора и его доставку из холмистой местности неподалеку от Коптоса, который вырезал на камне свою «благодарность Пану, хранителю хорошей дороги, и всем другим богам», а вторым – Пергай, сын Аполлония, также поблагодаривший этого бога за спасение от падальщиков.
Таким образом Герополис у входа в Суэцкий залив стал Арсиноей, самым северным портом в Красном море. На юге корабли могли остановиться в Куссейре, Миос-Гормосе и Беренике Золотой (Суакин). Между этими портами располагалась местность, получившая название Троглодитика, в которой жили загадочные народы, называвшиеся ихтиофагами («поедателями рыб»), хелонофагами («поедателями черепах»), ризофагами («поедателями корней»), спермофагами («поедателями семян»), цинамологами («доильщиками самок»), элефантофагами («поедателями слонов»), и струтофагами («поедателями птиц»). К югу от этого недружелюбного берега обитали дикие лесные и болотные звери – носороги и слоны, львы и леопарды, жирафы и бизоны. Но Троглодитика настораживала, и Филадельфу пришлось установить свой район охоты в Птолемаиде, расположенной на 17-м градусе северной широты.
Захваченный перспективой получить слонов и охваченный тщеславием, Филадельф стал говорить, что лично поведет армию на завоевание Эфиопии. Но это было лишь пустой болтовней, ибо Филадельф предпочитал вести войну через доверенных лиц. Вполне вероятно, что во время этого похода он добрался до Первого порога Нила, так как по его приказу на острове Филэ был отремонтирован храм Исиды, но вряд ли царь двинулся дальше. Негостеприимная Нубия не могла привлечь правителя, на протяжении всей своей жизни предпочитавшего дворец военному лагерю, а кровать – бивачному расположению. Филадельфа и правда интересовала больше организация похода, чем его проведение, и он много сил вложил в перевозку грузов от Красного моря к Нилу. Поход получился коротким, но очень трудным. На протяжении двенадцати дней люди продвигались по пустыне, полностью лишенной растительности, где в достатке водились только полезные ископаемые и драгоценные камни. Дорога в Коптос предназначалась для доставки золота, изумрудов и порфирита, добытых на рудниках и каменоломнях. Но за пределами этих рассредоточенных поселений в пустыне не было ни малейших признаков жизни.
Для того чтобы облегчить путешествие караванам, которые, как планировал Филадельф, должны будут двигаться туда и обратно по этой местности, лишенной растительности и воды, он приказал разбить четыре постоянные стоянки и выкопать глубокие колодцы. Затем он с огромным энтузиазмом взялся за выполнение второй задачи – вербовку новых наемников для службы в районе Красного моря и корабелов для строительства второго флота. Добровольцы откликались довольно охотно. Египетский царь пользовался репутацией «лучшего из работодателей для свободного человека», и Феокрит искренне советовал молодым и смелым людям отправиться в Египет. Так Филадельф превратился из ленивого и бесполезного царевича в жесткого правителя и любителя интриг. Этот период стал поворотным в его жизни. Филадельф отказался от легкомысленных порывов и с тех пор посвятил себя делу, которым должен заниматься хороший царь, – заботе о своей стране.
Не успело завершиться сооружение сети дорог в пустыне, как Филадельф потерял к нему интерес. В лучшем случае она превращала короткий караванный маршрут в более длинный, и правителю хватило ума понять, что в подобных условиях торговцы вряд ли захотят отказаться от пути, верой и правдой служившего им на протяжении столетий. Планы правителя изменились. Он все еще собирался убедить восточных торговцев в том, что Александрия – более подходящий для них перевалочный пункт, чем Дамаск, но стал думать, как объединить Средиземное и Красное моря с помощью Нила.
Это была неплохая, но не новая идея. Реализовать ее, вероятно, пытался представитель XIX династии Сети[17], а Нехо (XXVI династия) и персидский царь Дарий, несомненно, хотели соединить эти два моря с помощью канала, который вытекал бы из большого озера, питаемого Нилом и расположенного неподалеку от Бубастиса (современный Заказик), пересекал бы местность Гошен и заканчивался бы в районе древнего Патума, построенного на южной оконечности Горьких озер. Но ни Нехо, ни Дарий не сумели выполнить эту задачу. Первый, прислушавшись к словам оракула о том, что помогает варварам, трусливо забросил ее выполнение; второй, которому сообщили, что уровень Красного моря выше, чем тот, где находится местность Гошен, остановил работы, ограничившись тем, что сообщил потомкам о своем намерении. «Я перс Дарий, – говорится в надписи на стеле, установленной рядом с местом проведения работ, – Египет завоевал, постановил этот канал прорыть. Затем я прокричал: «Иди, уничтожь половину его», ибо такова была моя воля»[18].


