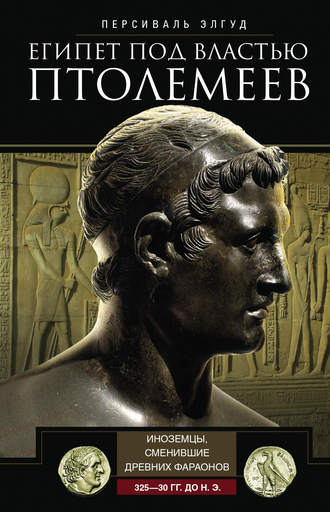
Персиваль Элгуд
Египет под властью Птолемеев. Иноземцы, сменившие древних фараонов. 325–30 гг. до н.э.
Но мир оказался непрочным, так как ни один из диадохов не собирался исполнять свои обязательства, а Кассандр без зазрения совести совершил одно из многочисленных преступлений, омрачающих историю Македонии. Александр, ставший единственным наследником престола, был скорее пленником, чем воспитанником Кассандра, призванного его защищать, и половина жителей Македонии перешептывалась о том, насколько это несправедливо. Ходили слухи о заговоре, участники которого якобы собирались убить Кассандра и посадить его воспитанника на трон. Но дальше разговоров дело не пошло. У Кассандра были сторонники, такие же придирчивые, как и он сам. Эти люди, многие из которых были офицерами, сомневались в наличии у мальчика способности управлять государством и подчеркивали, что у руля должен стоять сильный кормчий. Сам Кассандр думал, что существование Александра угрожает его собственным планам на будущее, и приказал тюремщику, следившему за ребенком и его матерью, убить их обоих[10].
Уничтожение потомка Александра ознаменовало начало новой эры. Теперь во главу угла вставал вопрос превосходства, а каждый из диадохов мог стать полноправным правителем такой территории, которую был в состоянии удержать. Но договор 311 г. до н. э. ненадолго «пережил» ужасное преступление Кассандра. Заключившие его диадохи с самого начала не соблюдали ключевое условие этого перемирия – требование освободить греческие города-государства. Ни один из сатрапов, во власти которых они находились, не отказался от контроля над ними. Кассандр сохранил свою власть над Афинами, Лисимах продолжил контролировать территории в районе Геллеспонта, Антигон оставил свои военные гарнизоны в городах-государствах Малой Азии, а Птолемей сохранил контроль над Кипром.
Вряд ли правитель Египта мог поступить как-то иначе. Теперь центр державы располагался в Средиземноморье, и полновластие зависело от превосходства не только на земле, но и на море. Это заставляло каждого из диадохов пытаться распространить свое влияние на города, расположенные на морском побережье, создавать новые столицы – на этот раз с выходом к морю. Кассандр начал судорожно строить на берегу залива Термаикос город Фессалоники, Лисимах – Лисимахию в Херсонесе, а Селевк – Антигонию в Сирии, на берегу реки Оронт. Птолемей стал единственным диадохом, не нуждавшимся в строительстве новой столицы, но, осознавая важность превосходства на море, он усилил контроль над Кипром.
Положение правителя Египта на Кипре было ненадежным, власть над этим островом находилась под угрозой. Причиной этого во многом были действия Антигона. Мене-лай, назначенный Птолемеем наместником на Кипре, сообщал ему, что один или несколько правителей расположенных на острове государств, плативших Египту дань, переписываются с этим заклятым врагом Птолемея, а остальные собираются последовать их примеру. В ответном письме Птолемей приказал Менелаю проучить главного предателя, и наместник предложил царю Пафоса Никоклу сделать выбор – либо он покончит жизнь самоубийством, либо погибнет от рук палача. Никокл не мешкая выбрал первый вариант, и его жена вместе со своими придворными дамами последовала его примеру. Это событие стало одним из самых трагичных и печальных эпизодов в истории Кипра. В это время Леонид, еще один полководец Птолемея, отправленный им в Киликию, столкнулся с трудностями, и правитель Египта отправился на помощь. Он изгнал из Фаселиса, Ксанфа и других греческих городов Малой Азии солдат Антигона, даровал Памфилии, Ликии и Карии самоуправление, предусмотренное договором 311 г. до н. э., и захватил остров Кос. Иными словами, он всячески подчеркивал, что является поборником свободы греков.
Затем летом 308 г. до н. э. он отправился в Грецию. Понять причины, заставившие правителя Египта вторгнуться на территорию, прежде интересовавшую его только как колыбель торговцев, чиновников и солдат, довольно трудно. Его соперники, несомненно, тоже нуждались в мозгах и мышцах греков, и, соответственно, спрос стал превышать предложение. Пожалуй, только это предположение является достаточно обоснованным объяснением того, почему Птолемей внезапно заинтересовался Грецией. Возможно, правитель Египта решил опередить других сатрапов и занять «рынок», открыто заявив о том, что разделяет чаяния и стремления греков. Никогда прежде Птолемей не оставлял Египет без защиты и теперь, решив сделать это, очень рисковал.
Менее правдоподобной выглядит гипотеза о том, что Птолемей заразился широко распространенной в то время болезнью – жаждой власти над обширной державой – и хотел получить поддержку со стороны греческих городов. Такие амбиции явно не соответствуют политике, которую он последовательно проводил до этого. Птолемей не пытался захватить какие-либо территории, за исключением Келесирии, Кипра и Киренаики. Он даровал Андросу право чеканить собственные деньги, Делосу, Мегаре, Коринфу и Сикиону – самоуправление. На Коринфском перешейке Птолемей задержался, чтобы посмотреть Истмийские игры и встретиться там с представителями городов-государств.
С точки зрения Птолемея, эти переговоры прошли не очень успешно. Он говорил, что ему нужны припасы и люди, эллины внимательно его слушали, но никто из них не предложил ему помощь. Тем не менее он не хотел возвращаться в Египет с пустыми руками и, возможно, решил избежать позора, заключив брак. Сестра Александра Македонского Клеопатра все еще была вдовой. На ее руку в разное время претендовали Кассандр, Лисимах и Антигон, но неудачный брак с Пердиккой заставил ее с сомнением относиться к женихам-сатрапам, пока предложение ей не сделал Птолемей. Он, пользовавшийся славой здравомыслящего, честного и щедрого человека, был наиболее удачным кандидатом в мужья. В итоге, немного помешкав, Клеопатра согласилась стать его женой. Вряд ли этот союз основывался на любви – жениху было за шестьдесят, да и невеста не могла похвастаться молодостью. Скорее всего, Птолемей и Клеопатра заключали вполне характерный для того времени династический брак, и, будучи типичным македонянином, правитель Египта, выбирая себе новую невесту, даже не думал о том, какие чувства испытает, узнав о свадьбе, Береника. Но этот брак так и не был заключен. Клеопатра снова отправилась в Сарды, но удача опять отвернулась от нее – Антигон, не желавший, чтобы такой ценный приз достался Птолемею, приказал убить ее.
После совершения этого преступления шаткому миру между Птолемеем и Антигоном пришел конец, и каждый из противников стал ждать, когда другой сделает первый ход. На протяжении какого-то времени никто из них ничего не предпринимал. Антигон занимался украшением своей новой столицы Антигонии, а Птолемей был слишком осторожным человеком для того, чтобы переходить в наступление. Затем напряжение ослабло. Антигон решил перенести театр военных действий в Грецию и приказал своему сыну Деметрию захватить Афины и изгнать из этого города солдат Кассандра. Молодой человек отплыл из Эфеса во главе флотилии из 250 боевых кораблей, обогнул мыс Сунион, высадился в Пирее и завел разговор о возвращении городу прежних свобод. Военачальник Кассандра Деметрий Фалерский отошел к Фивам, а гарнизон, осажденный в крепости Мунихия, был вынужден сдаться. Охваченные радостью афиняне осыпали победителя и его отца всевозможными почестями. В частности, каждый из них был назван царем, а о них обоих граждане Афин говорили как об освободителях от македонской тирании.
Деметрию настолько понравилось в Афинах, что он дважды вступил там в брак, а также имел многочисленные связи с менее добропорядочными женщинами. Вино и женщины всегда были его главными пристрастиями, и в Греции (как, впрочем, и везде) он самозабвенно предавался обоим этим излишествам. Прелестное личико и кувшин вина действовали на Деметрия подобно яду. Однажды из-за этого ему даже стало настолько плохо, что он вынужден был лечь в постель, и Антигон лично отправился к нему, чтобы поинтересоваться состоянием его здоровья. Зайдя в спальню сына, он увидел, как кто-то закрытый покрывалом торопливо выбегает из комнаты. «Лихорадка теперь уже ушла», – хрипло прошептал Деметрий, приподнимаясь в постели, чтобы поприветствовать отца. «Конечно, ушла, сынок, – ответил Антигон, – и даже только что встретилась мне в дверях»[11].
Следующим на очереди был Птолемей. Воодушевленный успехом в Греции, Деметрий напал на Кипр. Менелай не ожидал появления у берегов острова вражеского флота. В его распоряжении не было ни кораблей, ни войск, способных помешать Деметрию высадиться на берег, и, отправив в Александрию письмо с просьбой и о том и о другом, он укрылся на Саламине. Птолемей выполнил просьбу своего наместника и отправил на Кипр все транспортные корабли, стоявшие в порту, посадив на них 10 тысяч наемников, и 140 военных судов, на одно из которых сел сам. Он высадился у Китиона, но опоздал. Деметрий осадил Саламин и с суши, и с моря, и Птолемею ничего не оставалось, кроме как попытаться прорвать блокаду. Но силы противника намного превосходили имевшиеся у него в распоряжении. Деметрий имел преимущество на море как по числу кораблей, так и по вооруженной силе.
Командуя левым крылом своего флота, Птолемей подал сигнал к атаке, и корабли противников начали быстро сближаться. Избежать битвы было невозможно – когда их весла сцеплялись, корабли не могли двинуться ни вперед, ни назад. Сражение продлилось до заката, когда Птолемей, потеряв половину транспортных судов и треть боевых, решил отступить. Это был конец боевых действий – Деметрий одержал окончательную победу, и Птолемей был вынужден покинуть Кипр.
Когда Антигон узнал об одержанной сыном победе, его сердце исполнилось гордости. Он принял царский титул, водрузил на свою голову диадему, широко распространенный в Азии символ царской власти, и стал ждать, что Птолемей станет умолять его о милосердии. Но это было пустое тщеславие – повиновение было последним, о чем думал тогда Птолемей.
Вернувшись в Египет, он собрался с силами и стал восстанавливать флот, собирать и обучать новое войско. То, что Антигон объявил себя царем всей Азии, в то время как владел всего лишь небольшим уголком этого континента, казалось трезвомыслящему Птолемею глупым. Но сама по себе эта идея ему понравилась – он был готов назваться царем Египта. Так как Птолемей ничего не делал наполовину, он захотел, чтобы жрецы составили для него соответствующие картуши, традиционные для Египта рамки, в которые заключались царские имена. Эта древняя практика развивалась на протяжении столетий. Первые фараоны, восходя на престол, довольствовались тем, что имя каждого из них заключалось в один картуш. Более высокомерные представители XII династии добавили к своей титулатуре второй картуш – с указанием тронного имени. Александр последовал этому примеру, взяв тронное имя и придав своему личному египетскую форму Алегсендрес. Птолемей поступил так же – стал называть себя Птулмисом, возлюбленным Амоном, сыном Ра, и наделил свою любимую жену, превратившуюся в царицу, собственным картушем, в который было вписано имя Береника.
Вслед за ним царский титул приняли Кассандр, Лисимах и Селевк. В итоге там, где раньше не было ни одного царя, их стало целых четверо. Слова Плутарха о том, что «один льстивый голос полностью изменил мир», представляют собой весьма достойную эпитафию.
Антигон решил, что пришло время наказать этих дерзких подражателей, и предложил начать с Птолемея. Теперь ему уже не нужно было рассчитывать на удачу. Имевший в своем распоряжении 80-тысячную пехоту, 8-тысячную конницу и 83 слона, он считал, что противник не сможет оказать ему сопротивление. Но поход, предпринятый Антигоном в 306 г. до н. э., оказался более трудным, чем он предполагал изначально. Его военные и транспортные корабли надолго застряли в Газе, а затем из-за недостатка питьевой воды и продовольствия его войско с огромным трудом преодолело пустынный Синайский полуостров.
С появлением в поле зрения Нила проблемы Антигона не закончились. Река разлилась, и перейти ее вброд было невозможно, а сильное прибрежное течение в море помешало Деметрию выгрузить на сушу припасы и боевые машины. Запасы начинали заканчиваться, и как солдаты, так и офицеры, привлеченные денежными посулами противника (две мины каждому из первых и один серебряный талант – каждому из вторых), перебегали к нему.
Более того, Птолемей вместе со своей армией укрепил позиции на противоположном берегу реки, и Антигону пришлось бы, форсировав Нил, пройти через линию оборонительных сооружений. Пав из-за этого духом, Антигон созвал военный совет и спросил, как ему лучше поступить – остаться и сражаться или отступить обратно в Сирию и вернуться, когда разлив Нила закончится. Ответ дался воинам легко: исход битвы был не очевиден, и отступление казалось им более обоснованным с точки зрения тактики. Птолемей ликовал, ведь Нил снова стал его надежным союзником.
Разочарование только усилило гнев Антигона, который тот решил излить на друзей и союзников Птолемея. Первой его жертвой стал Родос. Между этим островом и Александрией существовала здоровая конкуренция, в то же время не мешавшая их дружеским отношениям. И Родос, и Александрия были транзитными портами и получали выгоду от соперничества друг с другом. Так, египетские товары, перевозившиеся на Восток, доставлялись туда через Родос, а родосские, шедшие на Запад, – через Александрию. Антигон решил разорвать эту связь, для чего он собирался перехватить египетские и родосские торговые суда прямо в море, и Птолемей сделал все возможное, чтобы защитить свои корабли. Родосцы попробовали возмутиться, правда, попытка эта получилась довольно робкой. Но никакие протесты не могли остановить Антигона, и летом 304 г. до н. э. Деметрий выдвинулся с Кипра во главе флота из 200 военных кораблей и подверг остров блокаде.
Старейшины Родоса не упали духом и стали готовиться к войне. Они обратились за помощью к Птолемею, призвали к оружию всех граждан, пообещав почести всем, кто погибнет, защищая остров, и приданое девушкам, которые выйдут замуж за выживших. Деметрий, в свою очередь, стал спешно готовить нападение. Он неплохо разбирался в осадных орудиях и приказал сделать осадные башни и тараны, в два раза превосходившие огромный элеполис, построенный по его указу для осады Саламина. Боевые корабли и машины нужны были ему для того, чтобы они могли оказать поддержку в ходе наземной операции.
Удача улыбалась то родосцам, то Деметрию. В ответ на нападение жители острова предприняли вылазку; чтобы противостоять метательным машинам, родосцы строили дополнительные укрепления. В итоге, несмотря на численное превосходство и невиданные прежде осадные орудия, Деметрий не смог сломить оборону непокорных островитян. По его приказу стали сооружаться более крупные и тяжелые «черепахи» и осадные башни, и, пока шло их строительство, он попытался подкупить кого-то из родосцев. Но это ни к чему не привело. Деметрий выбрал македонянина, ученого, которого Птолемей прислал на остров для участия в строительстве оборонительных сооружений, и тот сразу же рассказал о планах захватчика старейшинам острова.
Птолемей изо всех сил старался помочь осажденным. Он сумел прислать им 30 тысяч тонн зерна и большой отряд отборных солдат. Правитель Египта уже собирался пойти на еще большие жертвы, когда Деметрий, потеряв терпение, предложил заключить мир. Родосцы обратились к Птолемею за советом, и он рекомендовал им принять предложение Деметрия. В итоге сын правителя Антигона сел на корабль и направил остатки своего флота в сторону Греции. Благодарные родосцы отдали Птолемею дань уважения – назвали его Сотером, или «Спасителем», установили на рыночной площади его статую и посадили священную рощу, призванную увековечить память о нем.
Избавившись от необходимости блокировать Родос, Деметрий добрался до Греции, где заставил Кассандра снять осаду с Афин, изгнал врага с Пелопоннеса, возродил Коринфский союз (302 г. до н. э.) и направился в Македонию. Эти его успехи доказали тщетность ожидания мира при условии, что война была для Антигона и Деметрия смыслом жизни, а Кассандр, Лисимах, Селевк и Птолемей заключили союз, целью которого стала окончательная победа над отцом и сыном. На этот раз сложились весьма благоприятные для союзников условия, и они решили, что смогут запереть Антигона в Сирии и остановить продвижение Деметрия по территории Греции. Лисимах во главе войска выдвинулся в сторону Малой Азии, а Селевк направился вверх по течению Евфрата. Птолемей занял Келесирию, а Кассандр должен был сдерживать Деметрия.
Однако Антигон, которому уже исполнилось восемьдесят лет, не потерял свою интуицию, не раз помогавшую ему во время войн. Приказав Деметрию покинуть Грецию, он пересек Тавр и атаковал войско Лисимаха с фланга. Затем, объединив силы с сыном, Антигон вступил со своими врагами в битву при Ипсе (301 г. до н. э.). Но возраст уже сказывался, и Антигон позволил сыну самому управлять всем ходом сражения. Деметрий не был ровней своих противникам, обучавшимся военному делу под руководством непревзойденного Александра Македонского. Потрясенный поражением, Антигон пал на поле боя. Деметрий, осознав, что битва проиграна, бежал в Грецию. Но афиняне не хотели, чтобы в их городе появлялись новые «освободители» или «цари», да и пелопоннесцы в том же духе ответили на просьбу беглеца о помощи.
Птолемей внес в создание союза лишь незначительный вклад и не принимал участия в битве при Ипсе. Как только Антигон пересек Тавр, правитель Египта неторопливо направился в Сирию. Этот поход оказался довольно легким, так как жители Тира, Сидона и Библа сами открыли ворота своих городов, а на дороге, ведущей в Малую Азию, не оказалось никого, кто мог бы оказать Птолемею сопротивление. Но вместо того чтобы захватить ее, диадох оставался в Тире до тех пор, пока не пошел слух о том, что Антигон победил Лисимаха во Фригии. Услышав об этом, Птолемей поспешил отступить. Уходил он с радостью, так как не хотел участвовать в операции против Антигона. В союз он вступал с опасением. Он надеялся, что Антигон будет наказан, но судьба этого непримиримого врага не интересовала Птолемея до тех пор, пока тот не посягал на границы Египта. К тому же он затаил обиду на Кассандра и его союзников. Никто из них не пришел ему на помощь, когда за пять лет до этого Антигон вторгся в Египет. Птолемей понимал: никто из них (и Птолемей прочувствовал это на собственной шкуре) и пальцем не пошевелит, если в будущем ему понадобится поддержка.
В конце концов это решение дорого обошлось Птолемею. Он забыл урок, который получил после заключения мира в Трипарадейсе в 321 г. до н. э. Тогда во время раздела державы Александра Птолемея не стали принимать в расчет. Диадохи, одержавшие победу в битве при Ипсе, поступили точно так же. При разделе доставшейся им добычи Кассандр, Лисимах и Селевк позабыли о Птолемее. Он напрасно говорил им о том, что должен получить в качестве награды за участие в союзе Келесирию. В ответ бывшие соратники утверждали, будто он не заслужил ее. Пораженный этим ответом, Птолемей спешно снова оккупировал Келесирию, и Селевк, которому ее отдали, долго думал, как ему лучше поступить – выгнать старого друга или позволить ему нарушить свои права. В конце концов перевесила необходимость отдать старый долг, ведь когда Антигон пытался убить его, Птолемей предоставил ему убежище и помог вернуть Вавилон. Селевк не смог забыть это. В итоге он позволил старому союзнику владеть Келесирией, пообещав себе, что «придумает, как ему следует обойтись с друзьями, захватившими то, что им не принадлежало по праву». Так эта область отошла под власть Птолемеев и принадлежала им до тех пор, пока один из представителей этой династии окончательно не лишился ее.
Окрыленный победой, Птолемей переключился на поддержку наук. Его, выросшего при дворе, где было принято покровительствовать ученым и книгочеям, привлекало все связанное с культурой, и теперь, став царем, он решил последовать примеру Филиппа и его сына Александра Македонского. Став правителем и обретя новые идеалы и амбиции, Птолемей сделал еще один шаг вперед. Если прежде он относился к Александрии только как к центру торговли, то теперь решил, что должен заставить греков признать ее превосходство и в сфере науки.
Время для этого новый правитель Египта выбрал крайне благоприятное. Афинская культура была в упадке – достойных последователей гениальных Платона и Аристотеля не нашлось, а драматургов больше не посещало вдохновение, столь же яркое, как снисходившее на Эсхила, Софокла и Еврипида. Больше не было ораторов, достойных славы Демосфена, и историков, подобных Фукидиду. К тому же Птолемей понял, что вполне может заинтересовать философов и ученых мужей и сделать так, чтобы они переехали в Александрию. Благодаря новому административному аппарату, ориентированному на честную работу, в Египте произошло настоящее чудо: доходы государства росли, и у Птолемея появилась возможность откладывать довольно крупные суммы. Он считал, что убедить ученых, пользовавшихся прочной репутацией в научном мире того времени, будет несложно, так как культура оказалась в весьма плачевном состоянии – учителя не могли найти учеников и наоборот.
От теории Птолемей быстро перешел к практике, и в Александрию хлынули целые толпы ученых мужей, специализировавшихся в той или иной области знаний, которые надеялись стать гостями этого щедрого и радушного хозяина. Одними из первых в Египет прибыли художники Апелл и Антифил, математик Евклид, врач Герофил, историк Гекатей, ритор Диодор, философы Стильпон и Феодор, поэт Фи-лет и филолог Зенодот. Большинство из этих людей с удовольствием оставалось в Александрии, радуясь комфорту, который им мог предложить царский двор. Другие, не желавшие жить за счет подачек Птолемея, выражали ему свое почтение и откланивались. К числу этих немногочисленных людей относился Стильпон из Мегары, человек весьма интересный, который вызывал у Птолемея здоровое любопытство и которого тот с радостью оставил бы в Египте. Люди, вступавшие в словесную перепалку с этим несдержанным философом, ядовитый язык и остроумие которого беспокоили даже его самых верных почитателей, обычно быстро начинали сожалеть о своей неосмотрительности. Одним из последних его жертв стал сын Антигона Деметрий. Во время разграбления Мегары его войском Деметрий пришел к Стильпону, чтобы спросить, не лишился ли тот чего-то из своего имущества. «С чего бы? – ехидно поинтересовался философ. – Я не видел никого, кто похищал бы знания».
Не все гости Птолемея были выше того, чтобы выяснять друг с другом отношения. Стильпон испытывал неприязнь к Диодору, Антифил завидовал Апеллу, а Птолемей со злорадством подпитывал эту зависть. Возможно, он заботился от Антифиле потому, что тоже недолюбливал Апелла. Но последний сумел очень изощренно отомстить. Обиженный художник уехал на Кос и изобразил Птолемея, радостно принимающего клевету, которой он придал облик Антифила, за которой следовали олицетворения зависти, хитрости и обмана. Эта история всплыла наружу, и некоторые ученые мужи отказались от посещения Александрии. Ехать туда, в частности, отказались ученик и преемник Аристотеля Теофраст и крупный мастер новоаттической комедии Менандр, о пьесах которого один критик смог сказать лишь одно: «О Менандр, где жизнь, а где вымысел?»
Однако гостеприимство Птолемея имело и обратную сторону. Современники негативно относились к свойственной ему любви к хвастовству и показушничеству. В частности, столовой посуды было так мало, что главный управляющий дворцовым хозяйством был вынужден брать тарелки и чаши на время у своих друзей. При дворе Птолемея не проходили такие обеды, как тот, что устраивал молодой македонянин Каран накануне своей свадьбы, во время которого гости на память получали прекрасные серебряные чаши и золотые венки и ели гусятину, крольчатину, куропаток и горлиц, а также целого жареного кабана и множество сладостей. Своим гостям царь предлагал миску чечевицы и блюдо с рубцом, «тушенным в уксусе». Запивать эти кушанья предполагалось местным вином, а приправой к ним служила душевная беседа. Евклид, приглашенный принять участие в одной из подобных трапез, на заданный ему вопрос о самом коротком пути к освоению математики ответил: «К геометрии нет царской дороги».
Из всех ученых, приезжавших в Александрию по приглашению Птолемея, нам больше всего известно именно о Евклиде. Этот поистине гениальный человек был уникальным. Возможно, его предшественники наметили ему путь, но их логика была не столь безупречной, а сделанные ими обобщения – менее точными. Следующими по заслугам можно считать двух лекарей – Герофила из Халкидона и Эразистрата с острова Кос. Доктринерству Герофил предпочитал наблюдения, а эмпирическому пути – опыт. Исследования этого первого врача, начавшего изучать анатомию, были посвящены мозгу, нервной системе, печени и легким. Эразистрат продолжил исследования Герофила, выяснив истинные функции мозга, подчеркнув важную роль нервной системы и подвергнув осмеянию принятую в то время практику кровопусканий.
Вместе с тем ни в одном из сочинений античных авторов не говорится о присутствии за столом Птолемея хотя бы одного египтянина. Царь, судя по всему, избегал египетских жрецов, некогда считавшихся главными хранителями знаний, хотя Манефон, египтянин, знавший греческий язык и служивший жрецом в Гелиополе, написал «Историю Египта», посвященную им времени правления в этой стране фараонов.
Застолья и развлечения не могли сделать Александрию главным центром привлечения интеллектуальных ресурсов. Птолемей понимал: если он хочет этого, то должен создать дом для носителей культуры и знаний, а затем обеспечить его материальную поддержку. Эта задача была для него слишком сложной, и он решил найти грека, который смог бы руководить ее выполнением. Идеальным кандидатом на то, чтобы сыграть эту роль, являлся Деметрий Фалерский, философ, управленец, писатель и оратор, некогда бывший наместником Кассандра в Афинах. В сфере ораторского мастерства Деметрий, отличавшийся изысканной манерой выражаться и умением использовать метафоры и аллегории, на голову превосходил многих своих современников. Он обладал энциклопедическими знаниями в области философии и литературы. Не было ничего, что у Деметрия не получилось бы, а его эрудиция потрясала как тех, кто его слушал, так и тех, кто читал его произведения.
Птолемей с благодарностью принял совет Деметрия, предложившего ему построить в Александрии Академию или храм муз. В результате рядом с дворцом выросло весьма внушительное здание Мусейона. Пройдя через прекрасный двор, закрытый от солнца благодаря посаженным в нем деревьям и обрамленный изящной крытой галереей, посетитель попадал в обширный зал с высоким потолком, разделенный на небольшие отсеки, в которых учителя могли что-то рассказывать, а ученики – слушать их. Учителя и ученики питались за счет дворца, дискутировали, прогуливались по галерее или обдумывали в ней что-то. В Мусейоне существовали правила, по которым определялось старшинство, а возглавлял его человек, называвшийся жрецом муз. Эта задумка, дань уважения, которое Птолемей испытывал в отношении культуры, была весьма амбициозной.
Незадолго до своего 80-летия царь стал задумываться о престолонаследии. После себя он оставлял наследство, способное стать лакомым кусочком для любого царевича, – централизованное процветающее царство, где не происходили волнения и жили мирные и трудолюбивые люди. Претендовать на трон могли два сына Птолемея, носившие такое же имя: сын Эвридики по прозвищу Керавн («Молния») и сын Береники, которого впоследствии станут называть Филадельфом. Отец никак не мог решить, кого из этих двоих ему следует сделать своим наследником. В целом первый из двух сыновей Птолемея обладал более весомым правом на престол. Законность его рождения не оспаривалась, а его матерью была сестра Кассандра, ставшего царем Македонии. К тому же он был старшим из двух братьев. Но этот юноша был подвержен страстям и отличался злопамятностью, принимал весьма сомнительные решения и не считался человеком осмотрительным. Филадельф же унаследовал от матери ровный характер, а от отца – здравый смысл, из-за чего Птолемей полагал, что младший сын будет держать бразды правления более уверенно. В то же время он сомневался, что македонские солдаты, за которыми оставалось последнее слово, одобрят выбор, нарушающий право первородства. Это приводило его в замешательство, и он обратился за советом к Деметрию Фалерскому.
В душе Деметрий соглашался со словами Аристотеля о том, что власть станет разумной лишь в том случае, когда «цари начнут философствовать, а философы станут царями». Но так как в этом несовершенном мире невозможно было удостовериться в правдивости данной гипотезы, он полагал, что первородство является более весомым аргументом для того, чтобы занять трон, чем внешний вид и манеры. В итоге совет, который он дал Птолемею, звучал совсем не так, как тот хотел услышать. Деметрий одобрил его решение отречься от престола, но попросил его выбрать Керавна. Благодаря своей эрудированности он проиллюстрировал совет цитатами из различных произведений, согласно которым игнорирование прав старшего наследника может повлечь за собой различные бедствия.
Тогда Птолемей прислушался к другим советчикам. Придворные, не желавшие служить жестокому Керавну, вежливо попросили царя вспомнить примеры из жизни богов. «Разве сам Зевс, – спрашивали они, – не был младшим сыном Кроноса?» Намек был понят, и македонские солдаты признали сына Береники своим будущим правителем.
В итоге в 285 г. до н. э. Птолемей покинул трон, со свойственной ему скромностью объявив, что «быть отцом царя лучше, чем владеть самому любым царством». Он лишил себя даже привилегий, связанных с царской властью. Избавившись от них, он стал одним из дворцовых телохранителей, превратился в скромного солдата, приветствовавшего и провожавшего своего сына, ставшего царем.


