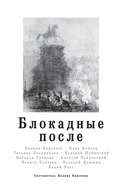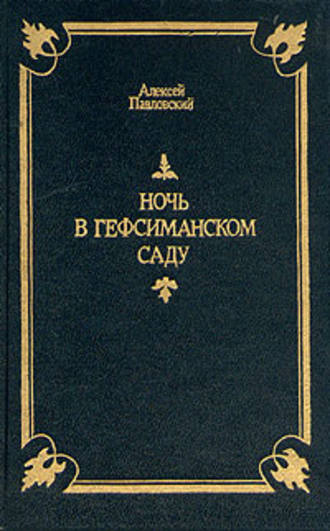
Алексей Павловский
Ночь в Гефсиманском саду
Выйдя от священника, чтобы двинуться дальше в одежде странника в глубь земли Израильской, Давид совершенно случайно, из какого-то обрывка уличного разговора, узнал, что сам Саул движется в Номву и что погоня вот-вот ворвется в город. Не на шутку испуганный гость Авимелеха бросился в бегство, но ведь его могли узнать всюду, и тогда он не нашел ничего лучшего, как войти в пределы филистимлян.
Так Давид оказался в городе Гефе, где царем был тогда Анхус. На что рассчитывал испуганный беглец? Ведь жители Гефа тотчас узнали в чертах его лица знаменитого победителя Голиафа!…
Давид решил притвориться сумасшедшим. По обычаям того времени сумасшедших не трогали, к ним даже относились с трепетным страхом, как к людям, одержимым неведомой силой. Он беспрепятственно бродил по улицам, пуская слюни себе на бороду, выкрикивал бессвязные речи и чертил палкой на стенах какие-то непонятные знаки. Царь Анхус считал, что сумасшедший Давид не представляет больше для филистимлян никакой опасности, но, не желая терпеть его у себя в городе, велел выдворить грязного безумца из пределов филистимской земли.
За это время Саул вернулся в свою резиденцию.
Давид же скрылся в Аддоламской пещере. Он дал о себе знать верному Ионафану, и вскоре вокруг него собрались не только его родные, но и до четырехсот человек воинов.
Казнь Авимелеха
Слухи о том, что Давид с вооруженным отрядом рыскает, словно разбойник, по израильской земле, дошли до Саула. Он стал доискиваться, каким образом Давиду удалось скрыться в тот день, когда Мелхола вместо него подложила куклу. Настойчивые расспросы, в конце концов, коснулись священника Авимелеха. Начальник Сауловых пастухов идумеянин Доик сообщил, что он лично видел, как Давид приходил в Номву. К первосвященнику Авимелеху, что тот кормил Давида хлебом, предназначенным для жертвоприношения, и вручил ему меч Голиафа. Приведенный пред грозные очи царя Авимелех оправдывался незнанием, но приговор Саула был краток – смертная казнь. К такой же казни были приговорены вместе с ним еще восемьдесят пять священников Номвы.
Но для исполнения приговора среди евреев не нашлось ни одного, кто поднял бы руку на людей, облеченных жреческим званием.
Всех их умертвил Доик, происходивший из рода Исава. Он был не только начальником пастухов, но и приближенным к скинии. Возможно, боязнь потерять эти высокие должности и заставила его выполнить ужасный приказ Саула. Все же кара настигла и доносчика – он умер от проказы.
Не довольствуясь умерщвлением священников, Саул разорил Номву, уничтожил скот и перебил всех жителей, так что из всего населения спасся лишь сын несчастного Авимелеха Авиафар. Он пробрался к Давиду, захватив с собой первосвященнический жезл.
Давид щадит Саула и влюбляется в Авигею.
Авиафар не случайно пришел к Давиду. Он знал, что к нему со всех краев страны тянутся и тянутся люди.
То были в основном бедняки или чем-то обиженные Саулом, а также и те, кто просто искал приключений, риска и легкой добычи. Вскоре в отряде Давида было уже не четыреста, а шестьсот человек. Это была хорошо сплоченная шайка самых настоящих разбойников, но грабили они, как правило, лишь для своего пропитания, не нападали на бедных и потому пользовались расположением народа. Им всегда было легко укрыться, найти приют и пищу.
Нередко Давид со своим отрядом вторгался в филистимские земли. Как ни странно, но удачные набеги Давида на филистимлян каждый раз вызывали у Саула злобу и ревность. И он не оставлял мысли погубить своего неуловимого соперника.
Между тем Давид, что, может быть, еще более удивительно, не испытывал к старому Саулу, помешавшемуся на зависти, никакой злобы.
Однажды жители пустыни Зиф донесли Саулу, что Давид скрывается в их землях. Саул пустился в преследование. Именно в этот драматический момент состоялась тайная встреча Давида с преданным ему Ионафаном. С небольшим отрядом особо доверенных лиц он нашел Давида после долгих блужданий по пустыне Зиф. Они встретились как братья. Ионафан со слезами на глазах поклялся быть верным Давиду. Еще раз предупредил он своего друга опасаться Саула. Формально Ионафан был наследником царской власти, но, прощаясь, он торжественно сказал Давиду: «Ты будешь царем израильским».
И вот однажды случилось так, что, отдыхая в глубине одной из темных пещер после долгого перехода по пустыне, Давид и несколько человек, бывших с ним, неожиданно увидели, что в солнечном проеме входа появилась знакомая фигура Саула. Он вошел в пещеру без стражи. Люди Давида шепотом посоветовали воспользоваться счастливым случаем, но Давид не захотел убивать Саула. Он неслышно подкрался к нему и осторожно отрезал кусок плаща. Когда же Саул, выйдя из пещеры, отошел на достаточное расстояние, Давид его окликнул. Услышав знакомый голос, царь в страхе обернулся, но Давид низко поклонился ему до земли и сказал:
«…зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: „вот, Давид умышляет зло на тебя“?
Вот, сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере; и мне говорили, чтоб убить тебя; но я пощадил тебя, и сказал: «не подниму руки моей на господина моего; ибо он помазанник Господа».
Отец мой! посмотри на край одежды твоей в руке моей, я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя; а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее» (Цар. 24: 10-12).
Саул, однако, как и следовало ожидать, не бросил преследовать Давида.
Смерть Саула была ужасной и похожей на кару, ниспосланную за многие преступления и коварство. В одном из сражений с филистимлянами, когда были убиты три его сына, он, не желая сдаться в плен, бросился на собственный меч.
В это же время умер и Самуил.
Царствование Давида.
Казалось бы, после смерти Саула Давид, которого, как мы помним, помазал, хотя и тайно, на царство Самуил, должен был спокойно объявить себя царем. Дело, однако, осложнялось тем, что в земле обетованной почти одинаковую власть возымели в то время два колена: Иудино во главе с Давидом и израильское, включавшее в себя несколько ветвей, во главе с сыном Саула Иевосфеем. Уже известный нам Авенир, ближайший приближенный Саула, поспешил своею властью объявить Иевосфея царем всей земли. Он и привел войско Иевосфея в землю Давида. Битва началась с единоборства юношей – по двенадцати человек с каждой стороны. Единоборство, однако, не принесло перевеса ни Авениру, ни командующему Давида Иоаву, поскольку все двенадцать юных воинов в жестокой схватке убили друг друга.
В результате всяческих интриг, раздиравших приближенных Иевосфея, Авенир был умерщвлен. А затем придворные Иевосфея, затеявшие новую жестокую возню вокруг престола, убили и своего царя. Увидев голову Иевосфея, доставленную из царской резиденции в Иависе, Давид понял, что дорога на царствование ему открыта.
Сделавшись единодержавным царем Израиля, Давид решил устроить новую столицу. Наиболее подходящим местом ему казался Иерусалим. Хеврон, где он постоянно жил последнее время и который фактически играл роль столичного города, мало подходил для этой цели, так как был сильно удален к югу. Северным израильтянам могло не нравиться, что столицей избран город в земле Иудейской.
Иерусалим, как вскоре убедился Давид, был, однако, почти неприступен. Населенный воинственными иевусеями, он оказался сильно укрепленным. Расположенный на трех холмах, город был надежно заслонен крепостью, построенной на неприступной скале Сион. Конечно, Давид мог бы подыскать и другое место, но его прельстила могучая красота города-крепости, приподнятого над огромным пространством подобно гигантскому царскому престолу. Штурм следовал за штурмом, но все атаки иевусеи отбивали с большой легкостью и без всяких потерь для себя. Давида выручили разведчики. В поисках воды они нашли в долине к востоку от Иерусалима источник, от которого шел выдолбленный в скале вертикальный ход-канал. По нему-то воины Давида и проникли в город.
На горе Сион был выстроен для Давида, ставшего царем всего еврейского народа, великолепный дворец.
Возможно, именно в это время, когда дворец был закончен, а государство укреплено, Давид сочинил свой знаменитый псалом 100 «Милость и суд буду петь…».
В России его переложил на стихи Державин, назвав «Праведный судия».
Я милость воспою и суд
И возглашу хвалу я богу;
Законы, поученье, труд,
Премудрость, добродетель строгу
И непорочность возлюблю.
В моем я доме буду жить
В согласье, в правде, в преподобьи;
Как чад, рабов моих любить,
И сердца моего в незлобьи
Одни пороки истреблю.
И мысленным очам моим
Не предложу я дел преступных;
Ничем не приобщуся к злым,
Возненавижу и распутных
И отвращуся от льстецов.
От своенравных уклонюсь,
Не прилеплюсь в совет коварных,
От порицаний устранюсь,
Наветов, наущений тайных
И изгоню клеветников.
За стол с собою не пущу
Надменных, злых, неблагодарных;
Моей трапезой угощу
Правдивых, честных, благонравных,
К благим и добрым буду добр.
И где со мною ни сойдутся
Лжецы, мздоимцы, гордецы;
Отвсюду мною изженутся
В дальнейшие земны концы,
Иль казнь повергнет их во гроб.
Пляска Давида перед ковчегом.
По замыслу Давида Иерусалим должен был стать не просто административным центром государства, но и столицей духовной, религиозной, местом паломничества всех верующих в еврейского бога Яхве.
Прежде всего необходимо было перенести в Иерусалим ковчег завета. Еще со времен Саула он находился в маленьком городке Кириаф-Иариме.
Давид отправился за ковчегом во главе тридцатитысячной армии и в сопровождении всех придворных. Шествие было торжественным и праздничным.
И вот на золотой колеснице, запряженной волами, при громких звуках музыки и песен, при ликовании тысячных толп народа, все прибывавших по мере движения колесницы, ковчег двинулся к Иерусалиму. Во главе процессии в белой одежде жреца, с золотой диадемой на голове шествовал Давид. Звуки огромных барабанов, тамбуринов, свирелей заглушались восторженными криками народа, плясавшего и певшего на протяжении всего пути. Случилось, однако, так, что какой-то резкий звук, по-видимому, напугал волов, запряженных в колесницу, они резко рванулись в сторону, и ковчег опасно накренился. Один из сопровождавших едва удержал его, но от самой мысли, что осмелился прикоснуться к священной реликвии, тут же упал и умер.
Происшествие с волами и ковчегом так потрясло Давида, что он велел остановить процессию. Лишь через три месяца, успокоившись, Давид снова встал во главе шествия. При приближении к Иерусалиму песни и пляски достигли своего апогея. Поддавшись общему ликованию, пустился в пляс, распевая песню, и сам Давид. Высоко вздымая руки, он кружился и, как сказано в Библии, скакал в своей длинной белой жреческой одежде. Толпа льнула к нему, и он целовался со всеми, обнимал и богатого и нищего. Радость его была беспредельна.
За скачущим Давидом наблюдала из окна дворца Мелхола. Ее возмутило единение царя Давида с чернью – ведь он обнимал даже рабов! Когда, возбужденный, еще не остывший от торжества, Давид пришел в царские покои, Мелхола стала язвительно насмехаться над ним.
Давид никогда не мог простить ей этой обиды.
Давид и Вирсавия.
Хотя Давид и пел в своих псалмах хвалу добродетели, сам он, однако, был далеко не безгрешен. У него, по обычаям того времени, был большой гарем (где, кстати, находилась теперь и Мелхола, попавшая в злые руки младших жен), но он не упускал привлекательных женщин и за его пределами. Однажды Давид увидел, выглянув в окно, красавицу, купающуюся в бассейне. Слуги сказали ему, что это Вирсавия, жена одного из его военачальников – Урии. Убедившись, что Урия находится в походе, Давид не преминул соблазнить Вирсавию.
Затем ему пришла мысль навсегда избавиться от Урии, чтобы избежать возможных в будущем осложнений. Он приказал командующему армией Иоаву использовать Урию в самых опасных местах сражений. Не прошло и нескольких дней, как Урия погиб.
Позорный поступок Давида стал быстро известен всем и каждому. По-видимому, письменный приказ, отданный им Иоаву, кто-то прочитал и пересказал. Не исключено, что письмо это ходило по рукам. Взрыв возмущения был, можно сказать, всеобщим. Самое печальное, что Вирсавия тяжко горевала о своем Урии, не скрывая от Давида своих безутешных слез. Она уже ждала ребенка от царя. Давид надеялся, что будущий сын вернет ему любовь Вирсавии.
Жрец, однако, предсказал, что карой Давиду станет неизбежная смерть младенца.
Так и произошло.
Жестокие муки раскаяния, впрочем, недолго терзали любвеобильного царя. После нескольких дней усердной молитвы и поста он устроил веселый пир, а пораженным столь быстрой переменой придворным сказал:
«…доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо?
А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне.
И утешил Давид Вирсавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею; и она зачала и родила сына и нарекла ему имя: Соломон…» (2. Цар. 12: 22-24).
Не забудем, что царь Давид был поэт. В минуту горького раскаяния и поста он сочинил один из своих лучших псалмов, с его знаменитыми словами:
«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня…
Дай мне услышать радость и веселие…
Сердце чистое сотвори во мне…» (Лс. 50: 3, 4, 10, 12).
Несчастия и бедствия Давида. Авессалом
Нечестивые поступки совершал не только царь Давид, но и его приближенные. В Библии приводится немало таких примеров. Один из них – случай с Амноном и Авессаломом, сыновьями Давида. Они были сводными братьями – от разных матерей. У Авессалома была родная сестра Фамарь, очень красивая девушка. Амнон, которому она приходилась сводной сестрой, возжелал с ней близости. Он домогался ее разными хитростями и наконец обманным путем, притворившись больным, за которым надо ухаживать, овладел ею в своей постели. Фамарь выбежала из спальни, раздирая на себе одежды. Для Авессалома же, ее родного брата, преступление, свершенное Амноном, было кровной обидой и, по обычаю, могло быть смыто только кровью. Правда, дело хотели уладить. Давид даже считал, что он примирил своих сыновей. Однако Авессалом, тайно заманив Амнона на пир, устроенный им далеко на пастбище в честь дня стрижки овец, убил брата. После этого Давид запретил ему показываться на глаза в течение двух лет. Кара была, конечно, очень мягкой и свидетельствовала о любви Давида к своему грешному, как и он сам, сыну Авессалому.
Но Авессалом жестоко отплатил Давиду. Объявившись неожиданно в Хевроне, который, как мы помним, был когда-то царской резиденцией Давида и даже одно время предназначался быть столицей, Авессалом объявил себя царем. Он нарочито милостиво обходился с жителями, всячески подчеркивая свою притворную доброту. Прослышав о его мнимых достоинствах, в Хеврон стал стекаться народ, да и сами горожане прониклись к Авессалому доверием. Надо сказать, что немало способствовала этому и необыкновенная красота сына Давида. Очень высокого роста, прекрасного телосложения, с красивыми, густыми, как у Самсона, волосами, он производил совершенно чарующее впечатление.

Авессалом после убийства брата Амнона
Собрав значительное войско, Авессалом двинулся к Иерусалиму. Давид был потрясен столь неожиданно развернувшимися событиями и стал горячо молиться о спасении Иерусалима. Босой, с покрытой головой, сопровождаемый всем семейством, Давид перешел Кедрон, взошел на гору Елеонскую, и, как рассказывает Библия, он, и все люди, бывшие с ним, «горько плакали».
Авессалом же, войдя в Иерусалим, повел себя как захватчик. Для того чтобы показать свое презрение к отцу, он обесчестил всех его наложниц. После этого юный победитель хотел напасть и на самого Давида, чтобы захватить его в плен, а возможно, и убить. Один из приближенных, расположенный к Давиду и тайно препятствовавший планам Авессалома, отговорил его от нападения. За это время Давид сумел подготовить армию к решающему сражению.
Авессалом и воины его позорно бежали.
По дороге, пробираясь на муле сквозь заросли, Авессалом запутался в чаще своими длинными густыми волосами и был убит полководцем Иовамом.
Давид, узнав о смерти сына, долго не мог утешиться и «…говорил так: сын мой Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой» (2 Цар. 18: 33).
Смерть Давида и его завещание.
К семидесяти годам царь Давид, не в пример патриархам-долгожителям, сохранявшим крепкое здоровье едва ли не до самой смерти, сильно одряхлел. Он никак, не мог согреться, и какой-то внутренний озноб все время сотрясал его исхудавшее тело. Слуги покрывали больного царя многими одеждами, но и под ними он не мог избавиться от холода. Тогда подыскали молодую девицу, Ависагу Сунамитянку, и ей суждено было стать последней женщиной, согревавшей Давида своим телом и ласками.
В глубокой древности такой способ «вспомоществования» не считался грехом и употреблялся наравне с иными лекарственными снадобьями. Он не предполагал также и обязательной физической близости – по Библии, Ависага осталась девственницей.
Отринутая им Вирсавия, видя умирающего Давида, просила у него на коленях за их сына Соломона.
«Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря:
Вот, я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен…» (3 Цар. 2: 1, 2).
Давид процарствовал сорок лет. Его погребли на восточном склоне горы Сион.
От Давида остались не только многочисленные предания, вошедшие в Библию, но и 73 псалма, являющиеся подлинной жемчужиной мировой поэзии.
ЦАРСТВОВАНИЕ СОЛОМОНА.
В Библии говорится: «И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо» (3 Цар. 2: 12).
Началось царствование Соломона, действительно, с очень твердого поступка. К нему однажды, вскоре после воцарения, пришла Вирсавия с просьбою от Адонии, братаСоломона. Царь оказал ей великую почесть, усадив ее по правую сторону трона. Подобного царского расположения она никогда не видела от Давида. Адонияне был ее сыном, но она была расположена к нему и нижайше изложила царю его просьбу. Адония, оказывается, хотел взять в жены Ависагу – ту самую Сунамитянку, что согревала своим телом последние дни Давида.
Мудрый Соломон мгновенно разгадал хитрый и коварный план своего брата. Женившись на Ависаге, последней жене Давида, он получал бы известные права на престол. Вирсавия вряд ли понимала, что просьба Адонии – часть политического заговора.
Адония был умерщвлен. Вместе с ним погибли и его сообщники, о которых, по-видимому, невольно, передавая просьбу, проговорилась ничего не подозревавшая Вирсавия.
Однажды Соломон так горячо молился на ночь, что в сонном видении ему явился сам Бог. Он спросил Соломона, чего больше всего хотел бы тот в своей жизни. Соломон ответил, что больше всего он хотел бы мудрости, чтобы правильно и достойно управлять своим народом. Просьба Соломона так понравилась Богу, что он в ту же ночь наделил царя израильского необыкновенной мудростью.
Доказательством этому послужило происшествие, случившееся уже на следующий день.
К нему явились две женщины. Одна из них держала на руках ребенка и упрекала другую, что та претендует на младенца.
«И сказала одна женщина: о, господин мой! я и эта женщина живем в одном доме; и я родила при ней в этом доме.
…Родила и эта женщина; и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было; только мы две были в доме;
И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его;
И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди…» (3 Цар. 3: 17-20).
Женщины просили Соломона решить вопрос, чьим же сыном является ребенок, а вернее сказать, кто из них обеих подлинная мать младенца.
Соломон именно так переиначил для себя предложенную ему загадку: не чей сын, а кто мать?
И приказал стражнику поднять меч и разрубить младенца пополам – будто бы для того, чтобы каждой женщине досталась равная половина.
«И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась – вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, господин мой отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая женщина говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите.
И отвечал царь и сказал: отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его: она его мать» (3 Цар. 3: 26, 27).

Суд Соломона
Закладка храма Соломона.
Двор Соломона поражал невиданной пышностью. Престол был сделан из слоновой кости и золота, а все выходы царя сопровождались необычайно торжественным ритуалом. Ни в одной из известных земель не было царя богаче Соломона.
Обладая поистине несметными сокровищами, Соломон решил осуществить, наконец, мечту своего отца, царя Давида – построить храм; достойный могущественнейшего из царей.
С царем тирским Хирамом, в земле которого произрастали кедры и кипарисы, он заключил договор, чтобы доставлять их в Иерусалим.
Ливанские кедры и кипарисы, а также другие ценные породы деревьев доставлялись сначала морем, а затем посуху. Их везли в Иерусалим не в виде стволов, а уже искусно приготовленными, выпиленными, обработанными и размеченными. В самом Иерусалиме их оставалось лишь собирать из «готовых деталей». Искусные зодчие, знатоки, резчики и ювелиры заранее приготовили и все украшения. На месте грандиозного строительства не было слышно шума и не было видно пыли. Храм вырастал как бы сам собой в торжественном и благоговейном молчании многочисленных зрителей, следивших за необыкновенной работой. За лес и украшения Соломон поставлял царю тирскому пшеницу, ячмень, масло и вино. На самом строительстве работали семьдесят тысяч подносчиков, три тысячи надсмотрщиков и восемьдесят тысяч каменщиков. Всем работающим после месяца труда полагалось два месяца отдыха. Хотя разнарядка была обязательной, но участие в строительстве храма многие считали высокой честью. А по спинам подневольных хананеян, военнопленных и рабов гуляла плеть.
Построение храма продолжалось семь с половиной лет, и было закончено в одиннадцатый год царствования Соломона.

Царь Соломон – талантливый правитель
Торжество освящения длилось семь дней. Были принесены в жертву двадцать две тысячи быков и сто двадцать тысяч овец.
Сам храм был невелик – тридцать один метр длиной и десять с половиной шириной, но оттого, что он был сооружен на холме Офел, укрепленном вертикальными обтесанными каменными глыбами, он казался огромным и как бы торжественно подъятым ввысь – к небу. Внутренность его поражала необычайной роскошью отделки. В глубине, за занавесом, стоял ковчег завета с двумя каменными скрижалями Моисея.
Впоследствии, и даже очень скоро, судьба великолепного храма Соломона оказалась печальной. Он был разграблен уже во время царствования его сына Равоама египетским царем Сусакимом, а затем неоднократно и другими захватчиками, пока, наконец, Навуходоносор не сжег его дотла во время разрушения Иерусалима в588 году до н. э.
Соломон остался в истории не только как строитель знаменитого храма. Он был мудр во многих своих начинаниях. Утвердив посредством храма культ бога Яхве и тем самым, сплотив племена и колена своего народа вокруг религиозного центра, он многое сделал для страны как исключительно талантливый, энергичный и дальновидный администратор. При нем страна была поделена на административные территории, как правило, не совпадавшие полностью с границами племен, что разумно ослабляло их обособленность и мешало заговорам. Кроме того, сеть административных учреждений давала возможность верховной власти править государством гибко и всеохватывающе.
Соломон оказался выдающимся дипломатом. Именно при нем были налажены и укреплены многочисленные культурные и торговые связи с самыми различными землями и государствами, в том числе и очень отдаленными. По-видимому, с целью укрепления связей он взял в жены дочь египетского фараона. Для нее был выстроен дворец, едва ли уступавший по роскоши самому храму. Впрочем, дворец самого Соломона намного превосходил размерами и великолепием, как храм, так и дворец дочери фараона.
Соломон совершил и еще одно – важнейшее и неслыханное в истории его народа – дело: он построил торговый флот, суда которого по Средиземному морю, как о том свидетельствуют документы, найденные в раскопках, ходили в заморские страны. Бывший пастушеский народ, странники пустынь, евреи стали мореходами.

Пророк
Мудрость Соломона, которой он превосходил, по словам древних писателей, «всех сынов Востока», выражалась и в других сторонах его поистине гениальной по своей масштабности деятельности.
Сохранились, например, сведения о его занятиях по естествознанию. Правда, никаких точных данных на этот счет пока не найдено, но косвенных свидетельств достаточно много. О Соломоне говорили, что он описал растительный мир «от кедра до иссопа» (до мха), что он дал классификацию четвероногих, птиц, пресмыкающихся и рыб и что, изучив «свойства и силы трав, дерев и даже бессловесных животных», он тем самым создал основу для врачевания.
И сам он пользовался большой известностью как врачеватель. Причем древние авторы указывают, что Соломон лечил не только травами и зельями, но и с помощью внушения, входя для этого, как полагали тогда, в общение с демонами. Слава Соломона в этом отношении, как врачевателя-кудесника, была огромна и распространялась по всему Востоку.
Широкой известностью пользовались притчи Соломона, вошедшие в качестве одной из книг в Библию.
Притчи касаются, главным образом, нравственной жизни человека, но характерно, что, написанные государственным деятелем, они всегда тесно связаны с общественной и даже политической стороной человеческого бытия. Притчи – это краткие изречения, афоризмы и сентенции. Похожие по своей форме на народные поговорки и пословицы, нередко очень образные, экспрессивные и эмоциональные, они легко запоминались и столь же легко и плодотворно разносились по всему свету.
Вот хотя бы некоторые из его многочисленных притч: «Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его» (Притч. 28: 11).
«Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава» (П ритч. 25: 27).
«Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме» (Притц. 25: 24).
Есть притчи и более обширные – в виде сценки или
описания, из которых следует мораль:
«Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного.
и вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою и каменная ограда его обрушилась.
И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок:
«Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь;
И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя – как человек вооруженный» (Притч. 24: 30-34).
Притчи Соломона почти свободны от былой Моисеевой жестокости и нетерпимости, они гуманны и великодушны к человеку. В этом отношении они уже заметно предшествуют Новому завету, заповедям Христа, в том числе и знаменитым Христовым притчам.
Нельзя не вспомнить евангельские заповеди, читая, например, такую притчу Соломона: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою» (Притч. 25: 21).
Такая сентенция, совершенно немыслимая в устах Моисея, будет естественною в устах Христа.
Чем ближе события, герои и отдельные «истории» подвигаются ко времени появления пророка из Назарета, тем больше в Ветхом завете отступлений от канонических, «уставных» Моисеевых требований, тем сильнее проступает нота гуманизма – любви к ближнему, маленькому человеку, бедняку и даже к врагу.
Соломон, унаследовав поэтический дар своего отца, царя-псалмопевца Давида, сочинял песни, гимны, покаянные и хвалебные псалмы. Он автор знаменитой, перешедшей в века «Песни Песней» (Правда, существует мнение, что «Песнь Песней» возникла позже.)– о любви прекрасной Суламифи и ее возлюбленного.
«Песнь Песней» – шедевр мировой литературы. Любовная лирика многих стран и разных времен обязана своим существованием этому непревзойденному лирическому произведению, приписываемому Соломону.
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песне Песней,-
писала Ахматова.
Грехи и покаяния Соломона.
Хотя Соломон и настаивал на том, чтобы идти – неуклонно и строго – «стезею добродетели», все же ему далеко не всегда удавалось неотступно следовать собственному мудрому правилу.
Как государственный деятель, он совершил ошибку, совершенно непростительную для его мудрости и оказавшуюся впоследствии роковой для израильского государства.
Он, как известно, разделил всю страну на двенадцать налоговых округов, что давало ему возможность гибкого и оперативного управления страной. Он был прав, когда при установлении границ по округам старался не следовать сугубо национальному признаку, так что в результате одно колено порой находило на другое. Это было мудро, потому что мешало национальным ограничениям и распрям. Однако бросается в глаза, что среди округов, платящих налог, отсутствует территория Иуды, то есть того колена, к которому принадлежало племя Давида и Соломона. Скорее всего, это было сделано для того, что бы колено царствующего Соломона не платило, в отличие от других, никакого налога. То была привилегия, вызывавшая, надо думать, немало обид и нареканий. Подобное выделение Иудеи способствовало впоследствии расколу страны на два отдельных враждующих царства.
Нельзя не заметить также, что высоконравственные «уроки» Соломона, высказанные им в притчах, находились в совершенно вопиющем противоречии с роскошью и развратностью его двора.
Все это, по-видимому, не могло не вызывать тяжкого разлада в душе всесильного царя.
Как ни странно, у Соломона, власть которого была поистине безмерна, а богатства неисчислимы, все чаще появляются – и в псалмах, и в книге размышлений «Премудрости Соломона», и особенно в Екклезиасте горестные и покаянные мотивы.
Ощущение тщеты бытия все сильнее охватывало стареющего Соломона. Чувство одиночества пронзает его сердце. «Бог на небе, а ты на земле», – говорит он в Екклезиасте.
«Все идет в одно место: все произошло из праха и все
возвратится в прах» (Еккл. 3: 20).
А потому: «Что пользы работающему от того, над чем
он трудится?» (Еккл. 3: 9.).