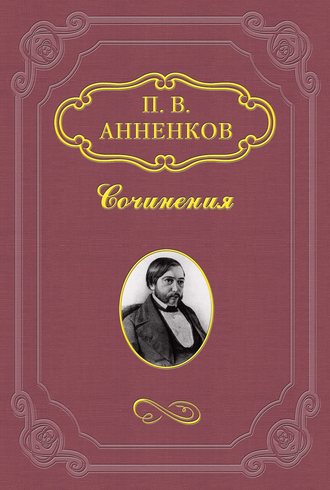
Павел Анненков
Замечательное десятилетие. 1838–1848
XXXIII
Вскоре мне уяснилось, что были и другие причины к холодности между друзьями, переехавшими за границу, и теми, которые остались дома, – посущественнее рассеяний Парижа. После нескольких искренних и доверчивых бесед, происходивших у нас обыкновенно по ночам в Париже, я не мог сомневаться более, к великому моему изумлению, что в глазах Герцена и его семьи Москва совершенно поблекла, лишилась своих красок, утеряла магическое слово, отворяющее сердца. Вся старая жизнь в ней казалась уже Герцену и его жене сухой степью; на ней уже не росло более трогательных воспоминаний, да и те, которые оставались от давнего времени, видимо завяли, не поддерживаемые тщательным уходом, который так же необходим для воспоминаний, как для детей и цветов.
Переворот этот объяснить не совсем легко, потому что он вышел из довольно сложного психического процесса и воспитался массой очень тонких нервных раздражений, но несомненно, что начался переворот еще в Москве и только довершился за границей. Обстоятельство это пролило для меня большой свет на все приемы Герцена в Париже, на всю его судорожную торопливость поставить себя в центре новой жизни; другая, старая, которая могла бы служить ей противовесом, уже скрылась для него в тумане и более не существовала. Никто еще не возбуждал во мне так полно предчувствия, при первых же шагах Герцена на почве европеизма, что он прирастет к ней навсегда, что почва эта окончательно овладеет им и уже не уступит его никакой другой, хотя фактических поводов для такого пророчества пока еще и не представлялось ниоткуда. Но я тогда не знал, что Герцен просто старается нажить себе второе духовное отечество, так как первое уже лишилось своей притягательной силы и существовало только как повод к сожалению, дружескому участию и великодушному предложению посильных услуг, если потребуются.
Известно, что незадолго до отъезда за границу Герцен потерял отца и получил довольно значительное наследство, сделавшее его сравнительно богатым человеком. Рамки, в которых заключено было до того его московское существование, раздвинулись, но показались ему еще теснее, стеснительнее, чем прежде; с увеличением материальных средств поднялись и окрылились желания, а желания и стремления у этого в высшей степени сангвинического характера находились в уровень с его образованием и мыслию. Притом же для Герцена наступала та пора жизни, когда человек испытывает обыкновенно мучительную потребность самой напряженной деятельности (ему шел 35-й год); но простора для деятельности в той форме и тех размерах, какие ему были нужны, он, конечно, найти не мог. Оставалось убивать весь избыток накопившейся энергии в пустом мозговом одушевлении, в шуме дружеских собраний, в поддержании или опровержении более или менее дельных тезисов на вечерах и по обедам; но, во-первых, это не могло продолжаться долго, а во-вторых, скоро оказалось, что и по этой тропинке уже нельзя было двигаться. Центры прежних собраний распались, дружеские интимные сходки не удавались более. Последним особенно повредил переворот в материальном быте Герцена и сравнительно богатая обстановка его дома, явившаяся, конечно, без всякого преднамерения у новых хозяев. Не было увлечения, составлявшего букет подобных сходок в прежнее время, когда они возникали на общих издержках, требовали некоторого пожертвования, вызывали хлопоты и хозяйские соображения. Герцен рассказывал, что появление какого-нибудь серебряного подноса или канделябра к его новом хозяйстве поражало как бы немотой его друзей: искренность и веселие пропало, как только повстречались с готовым комфортом. Он относил это явление к той капле демократической зависти, которая живет в сердцах даже самых лучших людей;{183} но такое изъяснение мне казалось всегда несправедливостию: тут было сожаление об утерянных условиях прежнего скромного образа жизни. Когда уже оказалось почти невозможным собрать под одну кровлю близких людей без того, чтобы не увидать признаков измененных отношений с ними, и когда скоро оказалось (о чем сейчас будем говорить), что они уже расходятся и в понимании предметов – что оставалось делать? Умственные интересы московской и вообще русской среды были исследованы до нитки, вопросы, казавшиеся особенно важными, переворочены на все лады. Серьезной работы, в которую можно было бы уйти и запереться от мира, не обреталось вовсе, а потому оставалось, конечно, только тушить поедающий огонь деятельности чем ни попало. А между тем почти обок существовала, в форме западного мира, просторная арена для бесконтрольного удовлетворения всех умственных потребностей, но доступ к ней был невозможен по особенному положению Герцена в отечестве. Много усилий употребил он, чтоб разорвать эту цепь, связывающую его движения, и, вероятно, не успел бы, если бы В. А. Жуковский не принял участия в его судьбе и не помог ему достигнуть цели{184}.
Не менее любопытна и душевная история, пережитая в эту же пору женою Герцена. И ей, как и мужу ее, страшно надоела дисциплина, которую ввел и неуклонно поддерживал тогдашний идеализм между друзьями. Наблюдение за собой, отметание в сторону как опасного элемента некоторых побуждений сердца и натуры, неустанное хождение по одному ритуалу долга, обязанностей, возвышенных мыслей, – все это походило на строгий монашеский искус{185}. Как всякий искус он имел свою чарующую и обаятельную силу сначала, но становился нестерпимым при продолжительности. Любопытно, что первым поднявшим знамя бунта против проповеди о нравственной выдержке и об ограничении свободы отдаваться личным физическим и умственным поползновениям был Огарев. Он и привил к обоим своим друзьям, Герцену и его жене (особенно к последней), воззрение на право каждого располагать собой, не придерживаясь никакому кодексу установленных правил, столь же условных и стеснительных в официальной морали, как и в приватной, какую заводят иногда дружеские кружки для своего обихода. Нет сомнения, что воззрение Огарева имело аристократическую подкладку, давая развитым людям с обеспеченным состоянием возможность спокойно и сознательно пренебрегать теми нравственными стеснениями, какие проповедываются людьми, не знавшими отроду обаяний и наслаждений полной материальной и умственной независимости. В основе его лежало еще и уважение к физиологическим требованиям лица, которые всего менее признавались демократическими умами, искавшими установить общие правила и начала даже и для органических и психических отличий человека. Оно пришло по вкусу тогдашнему Герцену, выбитому из обыденной колеи московского дружеского существования, и это обстоятельство, вместе с сохранившейся нежностью к товарищу своего детства, объясняет то высокое мнение об Огареве, которое не раз выражал Герцен, называя его свободнейшим человеком и умнейшей головой в России. То достоверно, что влияние Огарева имело неисчислимые последствия для самого Герцена, а также и для жены его.{186}
Вся эта работа передвижения с одной точки зрения на предметы на другую, начавшаяся с появления Огарева в Москве, в 1846 году, шла, однако же, гораздо медленнее у Герцена, чем у его жены. Герцен не скоро отделался от первоначальной философской своей закваски. Несмотря на свое отречение от статутов идеалистического ордена, к которому принадлежал, несмотря на попытки секуляризовать, так сказать, свою жизнь, Герцен долго и потом сохранял на себе печать, приемы и сословные отличия своего прежнего звания. Тип строгого учителя и нравственного проповедника остался с ним и после того, как он сошел, так сказать, с кафедры и поселился на публичном рынке, разделяя его волнения, ропот и жалобы. От некоторых основных начал исповедуемой им некогда философско-моральной доктрины он никогда уже и не отказывался. Впоследствии он даже казался, на основании именно этого первородного греха, многим умам и характерам, позднее народившимся и уже не знавшим никаких стеснений, полулибералом и нерешительным человеком{187}. По наружности никакой перемены в способе пользоваться своей жизнию и молодостью с ним не произошло с тех пор, как он стоял на европейской почве. Он и прежде, не стесняясь началами и правилами, отдавался свободно влечению мимолетной фантазии, всякому затронутому чувству и первому впечатлению, но тогда еще у него сохранялось в целости сознание, что он остается тем же человеком, просветленным благодатию высшего понимания жизни, каким воспитала его среда, что он не потерял способности судить правильно о собственных увлечениях своих, и для сохранения их не продавал своей души и многих годов ее научного воспитания. Так же свободно распоряжался он и теперь своею парижскою жизнию, но с вторжением в нее политических и социальных страстей – успокоительной фикции для совести не существовало более: все эти явления имели свои уставы, никем не проверенные, очень требовательные, а подчас и возмущавшие непривычное к ним ухо и чувство; вдобавок они еще выдавали себя за догматы, без принятия которых к ним и подступать не следует. Запас старых и никогда вполне не растраченных моральных убеждений составлял у Герцена уже ненужный к ним придаток, потерял значение регулятора мыслей и существовал без цели, мешая уверовать в нравственную сторону предметов окончательно и не имея силы совсем упразднить их в глубине совести как ложные и не подтвержденные продукты одного общественного болезненного недуга. Положение могло выйти трагическим – и впоследствии таким и вышло.
Наоборот, разложение старых теорий и представлений отразилось полнее и решительнее на душе бедной, восприимчивой, изящной по характеру и природе – жене Герцена, и переработало ее окончательно. Реакция против условий московского существования началась у нее с того мгновения, когда она почувствовала непреодолимое отвращение к буржуазным добродетелям, которые составляли основу всего быта, окружавшего ее, но она внесла еще страсть в свою критику. Ей уже сделались не только скучны, но и подозрительны доблести при домашнем очаге, семейный героизм, всегда довольный и гордый самим собой, и вечное прославление всех тех пожертвований, трудов и добровольных лишений, которые сносились перед ее глазами на алтари разных более или менее почтенных молохов, величаемых, по ее мнению, идеями. С пробудившейся жаждой к расширению своего существования она возненавидела нескончаемое хождение все в одну сторону, посолонь, и объясняла устройство этой невыносимой церемонии, походившей в ее глазах на раскольничье радение, частию тем, что она необходима жрецам кружка для прикрытия их слабой, апатической, ограниченной природы, а частию тем, что она доставляет вообще бедным инстинктам и побуждениям потеху гордого самоуслаждения. Никогда так радикально не относился сам Герцен к старому кружку друзей, никогда не выказывал столько жестокости и несправедливости в приговорах над ним, никогда не отзывался о нем с такой ненавистью, ценя, однако, даже и в спорах с старым кружком немаловажные усилия его членов выносить жизненные тяготы времени наиболее мужественно, благоразумно и независимо. Но все это пропало из вида его жены, заменилось какой-то наивной, незлобивой диффамацией прежних друзей, как только приходилось вспоминать о них{188}. Жена Герцена возлагала еще на ответственность старых знакомых и долгую скуку прежней своей жизни, между тем как настоящей причиной этой скуки был, как скоро объяснилось, запоздалый, мечтательный и бесплодный романтизм. Несмотря на постоянное чтение серьезных иностранных писателей, несмотря на философский говор, раздававшийся постоянно около жены Герцена и, конечно, не щадивший никаких иллюзий и фальшивых решений вопросов, – душа ее имела еще свои секреты, сберегала про себя тайные задачи и питалась, в самом шуме скептических излияний, скрытными романтическими стремлениями и чаяниями. Но куда ни обращала она свои глаза – ничего похожего на порядочный романтизм нигде не оказывалось налицо вокруг нее. Она была счастлива в муже, в семье, в друзьях – и страдала отсутствием поэзии, которая не сопровождала все эти благодатные явления в той мере, как бы ей хотелось. Она предпочла бы поэтические беды, глубокие несчастия, окруженные симпатией и удивлением посторонних, и минутные упоения – тому простому безмятежному благополучию, которым наслаждалась. Задачей ее жизни сделалось, таким образом, обретение романтизма в том виде, как он существовал в ее фантазии; за ним она и погналась со страстию и неутомимостью искателя волшебных кладов, надеясь когда-нибудь напасть на его след и вкусить от той испробованной немногими смертными амврозии возвышенных чувств, какую он готовит для своих верных слуг, – узнать отраду небесных ощущений, им доставляемых. Под конец жизни ей показалось, что она держит эту чашу с волшебным напитком в своих руках, но при первом же прикосновении губ глубочайшее отвращение и жгучее раскаяние во всем, что было сделано для обладания драгоценным сосудом, овладело всем ее существом и свело преждевременно в могилу.
Я не намерен рассказывать здесь печальные подробности более головной, чем сердечной страсти, как она развилась на реальной почве у этой все-таки замечательной женщины, но некоторые черты истории важны и для определения отношений между разнородными эмиграциями.
Дело в том, что поэтическая мечтательница ознакомилась с жизнию по романтизму, которую наконец обрела в Париже через посредство в высшей степени развитой, изящной и вместе холодной и эгоистически-сластолюбивой личности, какою и был вышеупомянутый Гервег. Личность эта вдобавок была еще двойной германской знаменитостию, – она прославилась лирическими песнями, призывавшими народы к оружию, и радикализмом взглядов на правительство вообще и на прусское в особенности. Под мягкой, вкрадчивой наружностию, прикрываясь очень многосторонним, прозорливым умом, который всегда был настороже, так сказать, и опираясь на изумительную способность распознавать малейшие душевные движения человека и к ним подделываться, – чудная личность эта таила в себе сокровища эгоизма, эпикурейских склонностей и потребности лелеять и удовлетворять свои страсти, чего бы то ни стоило, не заботясь об участи жертв, которые будут падать под ножом ее свирепого эгоизма. Все средства своего образования, развития, действительно не совсем обыкновенных даже и в кругу передовых людей Европы, а также и своего нервного темперамента, часто разрешавшегося лирическими, вдохновенными вспышками и порывами, – все эти средства, говорю, перепробовала замечательная личность, здесь описываемая, для дела обольщения заезжей мечтательницы, для доставления себе победы над всеми запросами многотребовательной ее фантазии. Долго отыскиваемый романтизм являлся теперь перед женой Герцена в великолепном, ослепительном виде! Лоэнгрин со сказочных высот был перед нею налицо, и только подойдя к нему ближе, она вдруг увидала, какой страшный образ скрывается за ангельской маской, им усвоенной, – и в ужасе, последним сверхъестественным движением воли, она вырвалась из его рук, измученная и оскорбленная. Может быть, обольститель и действительно чувствовал некоторого рода любовь и привязанность к обреченной им жертве, как это бывает у иных преследователей; но когда жертва ускользнула от него, любовь и привязанность пропали бесследно, а место их заняли бешенство неудачи, жажда мести за помятое тщеславие и за оскорбление, нанесенное его гордости и самолюбию. Он принялся публично бросать грязью в женщину и семью, благополучие которых разрушил, употребляя при этом средства, возмущавшие даже и друзей его…
И вот чем кончался романтизм для бедной женщины, предавшейся ему и поплатившейся за него жизнию, и вот как разрешались столкновения наивной натуры с человеком, принадлежащим к типу людей, встречающихся на Западе, и вооруженным с головы до ног как для доблестных, так и для всяких других подвигов.
Всего печальнее и поучительнее в этой истории то, что Герцен сам ввел человека подобного закала в свой дом и сам водворил его у себя. Позднее Герцен говорил, что обращение его с этим человеком было более фамильярное, чем дружественное. Может быть, это и так в смысле психической верности, но мы все видели его непрестанные ухаживания за нашим эмигрантом, его усилия выказаться перед ним блестящими сторонами ума, купить его внимание. Так было, впрочем, на первых порах у Герцена и с другими эмигрантами и знаменитостями радикального мира, гораздо менее развитыми, чем тот, о котором мы говорим. Он и им открывал сокровища своего ума, сердца, расточал перед ними блестки остроумия и начитанности, не спрашивая, способны ли они еще понимать то, что им показывают так нерасчетисто.
Да куда же, спросят, девалась способность Герцена к тонкому анализу характеров, о которой я говорил прежде, его сатирическая и полемическая жилка, которая так сильно билась в Москве и помогала ему создавать такие меткие, часто беспощадные и уничтожающие, портреты знакомых людей. Куда пропал признанный мастер разительно схожих карикатур и горячих эпиграмм, имевших все подобие биографических данных? Они не пропали, как оказалось впоследствии; Герцен не утерял, не лишился ни одной из прежних своих сил, но, в поисках за новой духовной отчизной, он их сдерживал искусственно, старался затоптать, запрятать подалее в глубь души для того, чтобы добыть себе искусственную слепоту, делавшуюся теперь уже необходимостью для оправдания себя. Он принимал меры против своей прозорливости и склонности к комическим разоблачениям; на этом условии только и мог сохраниться в уме его весь окружавший его мир в качестве действительного, не призрачного существования, но мир этот не хотел знать об усилиях Герцена понять его с наилучшей стороны, а потребовал разделения с ним его предрассудков, предвзятых идей, необдуманных решений и планов. Герцен склонился и в эту сторону, и только когда чаша была переполнена, действительность сделалась нестерпима, нагло ясна в своей несостоятельности, – возвратились к Герцену прежние качества ума, вся мощь глубокого психолога-мыслителя, и он отдал на суд будущих русских людей, в известных своих «Записках», как самого себя, так и типы деятелей, ведших за собой политические фаланги того времени{189}. – Многое и другое еще возвратилось к нему тогда…
При отъезде Герцена за границу из Москвы в последний раз собрались около него все друзья и сопровождали его до первой станции петербургской дороги. Герцен ехал на Петербург и в омнибусе – железного пути еще не было. Прощальный обед, устроенный на станции, закончился, несмотря на шумное начало его, в грустном настроении друзей – многие из них плакали. Чего бы, кажись, плакать по случаю отъезда за границу на более или менее продолжительное время молодой, исполненной сил и надежд, семьи? Но вместе с ней ехал еще человек, который, назло всем недоразумениям, составлял еще такую необходимость в жизни своих друзей, что утрата его, даже и на короткий срок, поразила их, когда наступила минута расставания. Что бы заговорили они, если бы могли предчувствовать, что для всех их это была уже утрата вечная. Сопровождаемый горячими напутствиями, почти страстными выражениями любви и дружбы, Герцен тронулся в дальнейший путь под трогательным впечатлением этой разлуки. Он довез впечатление свое всецело и до Парижа, да и в последующем развитии его жизни оно не раз восставало в его памяти, хотя уже не могло примирить его с покинутым и далеко оставленным позади миром. Только в минуты полного нравственного одиночества, испытанного им особенно перед основанием своего журнала{190}, да в минуты горьких раздумий о своем деле, которое, чем бы он ни жертвовал для него, все-таки не давало ему полной натурализации в сонме европейских деятелей, – только тогда воспоминания о Москве – теплой, обильной струёй приливали к его сердцу и извлекали вопль страдающей души, доходивший и до друзей в Белокаменной. Он препоручал им своих детей, препоручал им защиту собственного имени и взывал к их участию, поощрению, нравственной поддержке. Оказалось, что жить без старых связей с Россией становилось невыносимым сиротством. Толпы людей, привлеченных к нему журнальным полом, открытым им для искренних и для корыстных обличений, для нужд общественной важности и для нужд личной мести и задетого самолюбия, не могли их заменить…
Так носила бурная, кипучая волна европейской жизни этот драгоценный самородок, брошенный в нее из какой-то далекой, неизвестной планеты, – носила из стороны в сторону, разбивая его и, конечно, не заботясь о том, куда его сложить и пристроить.
Иначе выразилось действие той же европейской среды на другого и тоже замечательного русского человека, Василия Петровича Боткина. Герцен уже не застал его в Париже, но я еще успел, до отъезда его обратно в Россию, прожить с ним целый год и съездить с ним еще летом 1846 года в Тироль и Ломбардию, причем путешествие наше совершалось довольно оригинальным способом. Минуя публичные кареты и дилижансы, насколько было возможно, а также и чересчур гостеприимные дворцы с отелями и ресторанами, мы ехали в телегах и колясочках местных промышленников извоза, и три месяца жили между крестьянами, лодочниками, работниками, по народным австериям, рынкам и темным закоулкам городов и селений. Я сожалею, что не вел дневника этой поездки, который мог бы быть любопытен теперь, после переворотов, обновивших Австрию и Италию…
Известно, что В. П. Боткин женился на француженке, приехавшей отыскивать фортуну в Россию и не думавшей никогда о формальном браке, как и сама заявляла. Когда друзья Боткина заметили ему, что проект женитьбы на девушке, которая ничего другого не желает, как весело прожить с любимым человеком более или менее долгое время, представляет некоторого рода странность, – Боткин пришел в великое негодование. «Так вот чем кончается, – говорил он, – ваша гуманность и искание идеалов! Эксплуатировать женщину, натешиться ею и потом бросить, когда надоела, – хорошие основы!» Брак был совершен по всем обрядам, в Казанском соборе, но через месяц Боткин увидал свою ошибку и бросил тотчас же несчастную женщину на произвол судьбы, не желая уже более и слышать о ней. Как всегда бывает, он возненавидел в ней собственный промах и наказывал в ней свой собственный грех{191}. Вместе с тем вся одежда крайнего идеалиста, какую он носил постоянно, вопреки всем новым модам, вдруг соскочила с него, как в театральном превращении у многоумного Фауста, обратившегося мгновенно в бешеного юношу. Он предался весь сенсуальной жизни, окунулся в самый омут парижских любовных и всяческих приключений, дополняя их раздражающими впечатлениями искусства, в котором кропотливо рылся, отыскивая тончайшие черты произведений, что было видоизменением того же культа сенсуализму, которому он предался. Он отрывался от него по временам, чтоб освежить голову от хмеля одуряющих наслаждений, и возвращался к ним еще с большей энергией. Плодом таких гигиенических перерывов была его поездка в Испанию и прекрасная книга его, за ней последовавшая; «Письма из Испании»{192}. Из того же источника проистекали и его занятия социальными и политическими вопросами, в которых он с изумительной прозорливостию открывал и потом преследовал малейшие черты скрытого идеализма, замаскированной чувствительности и мечтательности, сделавшиеся теперь предметами его ожесточенной ненависти. В таком настроении застал его, и уже в Москве, серьезный поворот дел, начавшийся повсеместно в Европе с 1848 года. Никто более его не испугался этого поворота, да поворот еще и укрепил в нем зародившееся настроение, так как оно могло служить некоторым образом щитом и охраной против подозрений в моральной склонности к утопиям. На склоне жизни, с ослаблением сил и уже тогда, когда он сам сделался значительным капиталистом, В. П. Боткин занял почетное и видное место в рядах нашей ультраконсервативной партии. Но он превратился в ультраконсерватора на свой собственный манер, который ставил его неизмеримо выше большинства его собратов по убеждениям. В основу своего последнего созерцания он положил, кроме чувства сохранения своего общественного положения, которое у него всегда было очень живо, еще и доктрины двух великих современных мыслителей – Карлейля и Шопенгауэра. Он почерпнул у первого его ненависть ко вседневной болтовне журналистики и литературных репортеров вместе с учением о спасительной силе повиновения великим авторитетам, просветителям народов и двигателям истории, где бы они ни встретились. От второго он усвоил его глубочайшее презрение к толпе и народным массам и его энергические проклятия беспредметному философствованию умников, разлагающих только без конца и цели одну собственную мысль. Таким образом, замечательный человек этот перешел множество стадий развития, и только смерть помешала ему видеть, во что слагается и чем кончает наш русский консерватизм.







