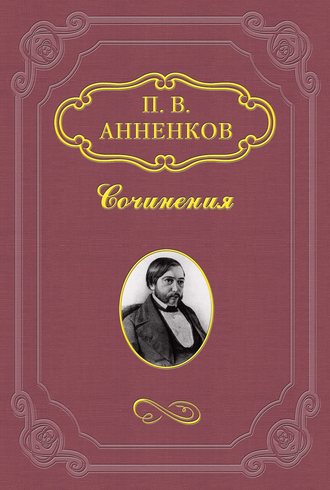
Павел Анненков
Замечательное десятилетие. 1838–1848
XXVII
История последовавших вскоре внутренних разногласий «западной» партии достойна не менее внимания, чем и история ее возникновения и влияния в обществе. За протестом московских друзей против исключительного европеизма Белинского последовал раскол в самом московском отделе западников. Оба главнейшие его представителя, Герцен и Грановский, разошлись по вопросам, возникшим в конце концов на почве той самой западной цивилизации, явлениями которой они так занимались. Толчок к новому подразделению партии дали уже идеи социализма и связанный с ними переворот в способе относиться к метафизическим представлениям. Самые первые проблески этого разногласия между друзьями оказались опять в Соколове, хотя разгар спора, со всеми его последствиями, относится уже к следующему, 1846 году. Позволяю себе остановиться теперь же на этой подробности, которая, в различных видах и формах, повторялась и во многих других кружках и отделах нашего «западничества».
Кому не известно, что, собственно, русский социализм или то, что можно назвать народными экономическими представлениями, заключался в очень ясных и узких границах, состоя из учения об общинном и артельном началах, то есть из учения о владении и пользовании сообща орудиями производства. В этом скромном, ограниченном виде, данном всей нашей историей, русский социализм и был поставлен впервые на вид славянофилами, с прибавкой, однако ж, что он может служить не только образцом экономического устройства для всякой сельской и ремесленной промышленности, но и примером сочетания христианской идеи с потребностями внешнего, материального существования{127}. На эту-то прибавку именно западники наши и не согласились: они отвергали ее самым положительным образом, признавая, что русская община спасает интересы народа в настоящую минуту и дает ему средство бороться с несчастными обстоятельствами, его окружающими, но за общинным владением они не признавали никакого всесветного экономического принципа, который мог бы быть годен для всякого хозяйства. Временное значение артели и общины западники подтверждали примером точно таких же установлений, являвшихся у всех первобытных народов, и думали, что с развитием свободы и благосостояния русский народ и сам покинет эту форму труда и общежития. Убеждения эти принадлежали и современной им политико-экономической науке, которая вместе с ними признавала общинный порядок производства ценностей и равномерного распределения земли и орудий труда не более как мероприятием против голода со стороны нищенствующего, младенчествующего народного быта и не позволяла питать никаких надежд на приобретение им в будущем какого-либо политического или экономического значения. В таком виде представлялся западникам «русский социализм». Совсем в другой форме явился перед ними новый «европейский социализм». Начать с того, что он открывал блестящие перспективы во все стороны и развертывал перед глазами лучезарную, фантастически освещенную даль, которой и границ не было видно. Как уже было сказано, европейские социальные теории изучались тогда очень прилежно, но из самых теорий этих получались только более или менее хорошо связанные и размещенные коллекции неожиданных, изумляющих и подавляющих афоризмов. Европейский социализм того времени не стоял еще на практической и научной почве, а только разработывал покамест нечто вроде «видений» из будущего строя общественной жизни, которую он сам рисовал по своему произволу. Существенной частию его содержания была ожесточенная критика всех экономических уставов и действующих религиозных верований и убеждений, которая служила ему способом очистить самому себе место в умах: она и давала ему сильно намеченный, боевой характер. И в каких энергических словах выразился этот характер! Уже не говоря о пресловутом восклицании Прудона – la propriete c'est le vol[34], – о не менее знаменитом изречении портного Вейтлинга: «Нам предоставлен только один вид свободного труда – грабеж», – сколько было еще других, тоже ослепляющих и оглушающих тезисов тогдашнего молодого социализма, над которыми приходилось работать его неофитам{128}. «Торговля и сословие купцов, ею созданное, не что иное, как паразиты в экономической жизни народов»; «результаты коллективного труда рабочих достаются даром патрону, который всегда оплачивает только единичный труд»; «правильная ассоциация распределяет работу по силам каждого, а вознаграждение по нуждам его»; «способности рабочего не дают ему права на большую долю вознаграждения, будучи сами даром случая»; «искусство и талант суть уродливости нравственного мира, схожие с уродливостями физическими, и никакой оценки и оплаты не заслуживают»; «рабочий имеет такое же право на произведенную им ценность, как и заказчик ее»; «цивилизация Европы есть прямое порождение праздных ее сословий» – и так далее и так далее. Я привел здесь только тезисы и положения нового социализма, какие попали под перо, но их было множество, и все они раздражали воображение гораздо более, чем целые системы этого же направления, вроде систем Сен-Симона или Фурье, так как у первого иерархический характер учения, а у второго искусственная гармония темпераментов и психических серий возбуждали многими своими сторонами недоумение и юмор. При афоризмах же и тезисах «воюющего» социализма, наоборот, никто и не предъявлял требований на очевидность и убедительность доказательств{129}. Сила этих громоносных положений заключалась не в их логической неотразимости, не во внутренней их правде, а в том, что они возвещали какой-то новый порядок дел и как будто бросали полосы света в темную даль будущего, открывая там неизвестные, счастливые области труда и наслаждения, о которых всякий судил по впечатлению, полученному в короткое мгновение той или другой из подобных вспышек. Эти прозрения в будущее, однако ж, действовали чрезвычайно различно на людей самого круга. Грановский, например, нисколько не обольщался ими.
Признавая европейский социализм явлением, которое уже не может быть оставлено без внимания ни историком, ни вообще мыслящим человеком, он смотрел на него как на болезнь века, тем более опасную, что она не ждет и не ищет помощи ниоткуда. «Социализм, – говорил он, – чрезвычайно вреден тем, что приучает отыскивать разрешение задач общественной жизни не на политической арене, которую презирает, а в стороне от нее, чем и себя и ее подрывает». Иначе отнеслись к нему Герцен и Белинский.
Воинственные манифесты социализма, возвещавшие истребительный поход его на европейскую цивилизацию, не приводили их в ужас. Конечно, ни у того, ни у другого не было и помина об усвоении всех его предписаний или о превращении всех его претензий в догматы собственной своей «веры» (это было бы и нелепо в их обстановке). Многие из нивелирующих декретов социализма даже казались и им юношескими вспышками, но они смотрели гораздо бодрее, хладнокровнее и спокойнее, чем Грановский, на участь современной образованности, если бы она и должна была потерпеть некоторый ущерб. А в том, что образованности этой предстоит немалое испытание, уже никто не сомневался: тогда во всей Европе думали, что с социализмом надвинется на нее свирепый ураган, долженствующий потрясти все так долго и так трудно нажитые ею верования, убеждения, привычки, мысли и исторические основы. Разница в способах относиться к этим предчувствиям переворота именно и образовала ту рознь в московском кружке, о которой теперь говорим. Герцен был заодно с Белинским, и они оба смотрели прямо и открыто в лицо всем симптомам разложения, грозившим, по их мнению, Европе со стороны социализма, не призывая, но и не ужасаясь развалин, которые он должен произвести. Они думали, что из пепла старой цивилизации Европы возникнет феникс – новый порядок вещей как венец и последнее слово ее тысячелетнего развития.
Все предчувствия переворота, напротив, тревожили Грановского в высшей степени, и самый переворот, как он представлялся его уму, не вызывал у него ни малейшей симпатии, никаких радужных надежд или ожиданий. Разногласие между друзьями было, как видим, совершенно невинного характера, не имея в основании своем ничего, кроме предположений и гаданий, но оно сопровождалось еще ирониями и диспутами, обнаруживавшими взгляды сторон и на другие предметы нравственного характера. Раз затянувшись, спор уже поддерживался множеством горючих элементов, прибывавших к нему со стороны, из ученых и других явлений тогдашней жизни.
Одним из таких горючих материалов должно считать, между прочим, хорошо известную книгу Фейербаха, которая находилась тогда во всех руках{130}. Можно сказать, что нигде книга Фейербаха не произвела такого потрясающего впечатления, как в нашем западном круге, нигде так быстро не упраздняла остатки всех прежних предшествовавших ей созерцаний. Герцен, разумеется, явился горячим истолкователем ее положений и заключений, связывая, между прочим, открытый ею переворот в области метафизических идей с политическим переворотом, который возвещали социалисты, в чем Герцен опять сходился с Белинским[35]. Но Грановский с горечью в душе, уже тронутой сомнениями, отбивался от того последнего слова, которое требовали у него друзья по поводу всех подобных явлений, и не говорил его, силясь сохранить под собой историческую, конкретную основу существования, подмываемую со всех сторон. Он начинал расходиться с собственным кругом, с тем кругом, в котором, по собственным словам его, заложены были целиком его сердце и вся нравственная часть его существования. Охлаждение и разногласие между друзьями уже существовало втайне прежде, чем вышло наружу. Уже в Соколове Грановский сказал раз при мне, шутя отпрашиваясь у общества в Москву для свидания с другими приятелями, там оставшимися, и преимущественно с домом Елагиных:
«Мне это нужно, чтобы не совсем загрубеть между вами – вот вы ведь успели уже лишить меня бессмертия души». Слова эти, несмотря на шуточный их характер, поразили меня тогда же как разоблачение. Через год, именно в 1846 году, решение Грановского было принято окончательно. Герцен рассказывает в своих «Записках», что Грановский однажды положительно объявил ему, после какого-то горячего прения между ними, что он, Грановский, не может дальше идти с прежними своими товарищами в том направлении, какое все более и более усвояется ими и из которого он не видит никакого разумного выхода; что он принужден, с болью в душе, выделиться из дорогого ему круга по многим религиозным, нравственным и историческим вопросам и заявить это твердо и искренно. Герцен был поражен: он терял друга – и какого друга! – своей молодости, да и видел еще, с какой глубокой печалью на лице и каким голосом Грановский представил свой ультиматум! Изумленный и растерянный, Герцен обратился тогда же за разъяснением дела, а если можно, то и за посредничеством, к Е. Ф. Коршу. но он встретил у него уклончивый ответ, который показывал, что не все члены круга расположены смотреть на заявление Грановского как на минутную или капризную вспышку. Евг. Корш не одобрял крутой постановки вопроса, какую сделал Грановский, но из объяснений его можно было догадаться, что сам Корш признавал, однако, основательность поводов, которые понудили Грановского к его заявлению. Разрыв приобретал значение несомненного факта и требовал, подобно перелому кости в организме, наложения на первых порах перевязки и предоставления затем живительному действию времени – произвесть срастание члена. Так и было сделано. Полного, совершенного исцеления, однако же, не последовало между надломленными членами кружка{131}. А между тем я был свидетелем, что до конца жизни ни Грановский, ни Герцен, ни Белинский не могли говорить друг о друге без умиления и глубокого сердечного чувства.
XXVIII
Что же делал Белинский за все это время? В конце лета этого года (1845) Белинский жил на даче, на Парголовской дороге, против соснового леска, окружавшего озеро Парголовское. Мы туда и ушли с Белинским, когда по прибытии в Петербург я приехал навестить его и переговорить о всем, что видел за лето. Я ему передал подробности впечатлений, вынесенных мною из пребывания в Соколове. Он выслушал внимательно мое сочувственное описание тамошних дел и слов и промолвил: «Да, московский человек – превосходный человек, но кроме этого он, кажется, ничем более не сделается».
Белинский оставался теперь почти один со знаменем и девизом непримиримой вражды. Он считал своей обязанностью еще выше держать это знамя напоказ с тех пор, как ряды его защитников стали расстроиваться. Не без огорчения смотрел Белинский на сближение враждебных партий в Москве, – сближение, которое сделалось возможным, как он думал, только потому, что одна партия не вполне договаривала свою мысль и не вполне обнаруживала свои конечные цели, а другая – западническая – непомерно обрадовалась сочувственному слову и с закрытыми глазами предалась обычному своему наслаждению – кидаться на шею врагам и поскорее сажать их за один стол с собою. Причины разладицы увеличивались все более и более между друзьями: в борьбе с славянофилами Белинскому приходилось задевать и всех их союзников, старых и новых. Недоразумения копились поэтому в лагере западников почти при всяком обмене мыслей между старыми друзьями. Сбереглась в целости только одна черта в их обычных сношениях. Друзья не скупились на взаимные обличения и жестокие упреки, когда стояли лицом друг к другу, и обращались тотчас же в прежних друзей и верных товарищей, когда замолкали или расходились по домам. Беречь свои симпатии, нажитые в течение долгого времени, становилось тогда для всех необходимостью, нисколько не мешавшей каждому настаивать на своих убеждениях и их проводить в свет.
Белинский приступил тотчас же, с обычной своей страстностью и искренностью, к определению и уяснению пунктов разногласия, образовавшихся между московскими и петербургскими западниками. Прежде всего он отнесся скептически и насмешливо к серьезным минам, с которыми ученые в Москве разбирают вопросы русской жизни, перенося их на почву науки, философии, философствующей истории и проч. По его мнению, вопросы эти не нуждаются в такой пышной обстановке и могут разрешиться очень простыми, не хитрыми и не мудреными мерами и принципами, доступными каждому самому простому пониманию. Так же точно и по отношению литературы к образованным классам общества Белинский думал, что последние нуждаются скорее в правильном устройстве их образа мыслей, чем в знании последних результатов европейской науки. Первое наглядное приложение этой системы отрицания дальних разъяснений и глубокомысленных упражнений в сфере идей Белинский сделал тотчас же на письмах Герцена об изучении природы, которые стали появляться тогда же в «Отечественных записках». Он признавал, что как положения, так и цели этих чрезвычайно умных статей в высшей степени важны, но не признавал возможности извлечь из откровений естествознания моральных и воспитательных указаний, нужных особенно для русских читателей, большинство которых еще не обзавелось органом для понимания первых нравственных начал. «И каким отвлеченным, почти тарабарским языком написаны эти статьи, – говорил Белинский, – точно Герцен составил их для своего удовольствия. Если я мог понять в них что-нибудь, так это потому, что имею за собой десяток несчастных лет колобродства по немецкой философии, – но не всякий обязан обладать таким преимуществом!»{132}
Несомненно, что в таких и им подобных заявлениях Белинского сквозило желание иметь дело с общественной литературой, занимающейся насущными вопросами дня, с популярным изложением научных и моральных истин (он вздыхал по литературе этого рода и в одном из тогдашних своих годичных обозрений словесности), но все-таки основания его приговора казались очень жесткими. Они лишали интеллигентных людей эпохи последнего убежища от пустоты жизни, какое они еще находили в науке и в отвлеченной постановке вопросов. Они отнимали единственную арену, на которой дозволялось проявление мысли. Способствовать уничтожению этой арены или умалению ее значения в публике значило просто, по мнению противников Белинского, играть заодно и в руку с обскурантами. В Москве смотрели на эту оппозицию Белинского эрудиции и чистому мышлению как на громадную ошибку увлекающегося критика и вдобавок как на плохой расчет. Нельзя вызвать, – говорили там, – популярную пропаганду науки, закрывая или подрывая настоящие источники самой науки, принуждая или отстраняя ее деятелей и замещая нынешние условия умственной жизни одними упреками, страстными призывами и пожеланиями лучшего, тщета которых должна быть ясна самому вспыльчивому критику еще более, чем кому-либо иному. Так расходились московские западники все далее и далее от центра западничества, образованного Белинским в Петербурге.
Помню любопытную сцену, приходящуюся к этому же времени: я был случайным свидетелем ее. П. Н. Кудрявцев, проезжая в Берлин, куда посылался для окончания своего профессорского образования, посетил, разумеется, в Петербурге Белинского, этого приятеля молодых своих годов, который в авторе «Флейты» находил когда-то идеал природного эстетического вкуса и понимания. Но встреча их теперь оказалась в высшей степени сдержанной, холодной и напряженной – и, конечно, по ней трудно было бы догадаться о родственных связях, некогда существовавших между этими людьми{133}. Кудрявцев являлся точным представителем московского взгляда на теперешнюю деятельность петербургского критика, и весь ход разговора, завязавшегося между старыми друзьями, ясно показывал, что тут лежит, в скрытой форме, довольно сильно назревший раздор. Как теперь смотрю на высокую фигуру П. Н. Кудрявцева, в синем фраке с светлыми металлическими пуговицами: он опрокинулся на кресло в приемной-столовой Белинского и останавливал порывы своего собеседника отрывочными, холодными фразами, которые, будучи сказаны обычным глухим голосом его и при каменном выражении на его лице, падали, как судейские приговоры. Белинский выбрал опять статьи Герцена для того, чтобы через них переслать упреки московским людям за их абстрактные отношения и к жизни и к науке. Кудрявцев отвечал коротко:
«Без абстракций нельзя обойтись при многих научных вопросах – за это надо сердиться на логическую необходимость, а не на людей». Напрасно Белинский старался разбить мысль о необходимости предпочтения тех научных положений, которые наиболее приложимы к современному быту, и о необходимости трактования этих положений наиболее понятным для читателей образом, – Кудрявцев отвечал: «Что за иерархия такая в науках? Отвлеченные науки так же необходимы, как и политические, и друг другу помогают. Почему не заниматься теми, с которыми более знаком, и в форме, которая более сподручна?» В таком тоне шла беседа некоторое время. Весь пыл Белинского, однако, не мог долго выдержать этого решительного отвода всех его положений, – отвода, по-видимому, очень спокойного, но, в сущности, весьма гневного и неприязненного. Беседа падала сама собой, и старые друзья хладнокровно расстались, обмениваясь самыми пошлыми вопросами на прощании, точно посторонние. Устами Кудрявцева говорила известная часть Московского университета.
И тот же самый П.Н. Кудрявцев через год, когда я посетил его уже в Берлине, при мне очень сурово и решительно остановил некоего г. С-ва, ученика и поклонника Шеллинга, но только очень низкой пробы, когда тот вздумал очертя голову ругать Белинского огулом{134}. Надо знать, что С – в предлогом для своих ругательств взял неблагоприятный отзыв о Шеллинге, где-то высказанный Белинским (кажется, в статье о «Тарантасе» графа Соллогуба), а сам Кудрявцев в то время состоял под неотразимым влиянием Шеллинговой «Философии откровения» и говорил о ней с упоением, что не помешало ему, как сказано, круто отнять слово у своего единомышленника. Но так почти всегда действовали противники Белинского, да и он сам, принадлежавшие к особому, теперь уже вымершему роду противников.
Не более злобы и ожесточения сохранил и Герцен, знавший отзыв критика о его статьях и упоминавший об этих отзывах потом не раз. «Чудак этот, – говорил он, – изволит находить, что трудно выказать более ума и дельного взгляда на предмет в более темных выражениях, но он забывает, что иначе никакого ума и взгляда на русском языке и показать нельзя». Впрочем, Герцен скоро был с избытком вознагражден за строгие приговоры критика. Вслед за письмами об изучении природы появились в «Отечественных записках» первые главы известного романа Герцена[36], и автор имел тотчас же удовольствие видеть, как внезапно переменились все отношения Белинского к его авторской деятельности. Белинский пришел от начальных глав романа в положительный восторг, который возрастал по мере развития повести. Критик наш, конечно, не просмотрел романтического колорита, который положен был на главные действующие лица романа, но отношения самого автора повести к своим лицам, горькая правда, с которой он излагает их порывы и мечтания, не исключающая, впрочем, и глубокого сочувствия к ним, а наконец – картина поучительной житейской драмы, возникающая из фальшивых общественных их положений, – все это поразило критика почти как неожиданность. Он многого ожидал от лучезарного ума Герцена, но такого мастерства «сочинения» не ожидал. «Вот где его сила, – говорил он, – вот где он на просторе, и вот какая арена ему открылась для богатырских литературных упражнений, к которым он склонен{135}. Герцен был тронут этим неожиданным успехом своего романа, переломившим сухое настроение критика. «Виссарион Григорьевич, – замечал он потом шутя, но очень довольный приговором, – гораздо более любит наши сказочки, чем наши трактаты, да он и прав. В трактатах мы беспрестанно переодеваемся от надзора и раскланиваемся любезно с каждым буточником, а в сказке ходим гордо и никого знать не хотим, потому что в кармане плакатный билет имеем: чинить ей пропуски, давать ночлеги и кормежные». Герцен подтвердил свое воззрение на «сказку», да оправдал и пророчество Белинского, напечатав в 1847 году («Современник» 1847 года) так называемые «Записки» и т. д. (о душевных болезнях вообще и проч.). Это была тоже сказка, но сказка, захватывавшая глубокие психологические и социальные вопросы{136}.
Была, однако ж, и еще причина для этих симпатических излияний Белинского, кроме той, которая порождалась самым литературным достоинством произведения Герцена:
Белинский склонялся все более к признанию важного значения так называемой беллетристики, разнообразной, умной, цепкой беллетристики, какая существует во всех странах Европы, образуя в них такой же существенный элемент общественного развития, как и художественные произведения, и часто служа пособием для их понимания. Со стороны Белинского этот ввод нового деятеля в область искусства и это снабжение его патентом на право гражданства в ней не было изменой старым положениям критика 1840–1845 годов, а только дополнением их. «Великие образцовые произведения искусства и науки, – говорил он, – были и останутся единственными пояснителями всех вопросов жизни, знания и нравственности, но до появления таких произведений, заставляющих иногда ждать себя подолгу, беллетpистика – дело необходимое. В эти долгие промежутки она предназначена занимать, питать и поддерживать умы, которые без нее обречены были бы на праздность или на повторение старых образцов и преданий». Желать возникновения беллетристики, не придавая ей значения последнего судьи всех современных задач – значило для него только желать обмена идей и сбора необходимого материала для разрешения этих задач уже путем науки и творчества, когда наступит их время. Зачатки такой беллетристики Белинский усмотрел именно в вышеупомянутом романе Герцена, что однажды и высказал публично в разборе его, не придавая ему художнического значения, но ставя его высоко как произведение умного, наблюдательного и развитого человека{137}. По тем же поводам и первые произведения другого писателя, Д. В. Григоровича, выступившего в 1846 с повестью «Деревня», за которой последовала другая, «Антон Горемыка», – обе возбудившие множество толков – встречены были чрезвычайно сочувственно нашим критиком. Он увидал в них начало эры талантливых разоблачений и ловкой проверки жизненных явлений из сельского нашего быта, важность которых была теперь несомненна для него.
Какую скромную роль ни отводил еще Белинский беллетристике вообще в литературе, но ходатайство за нее и предъявление ею прав на внимание показались еще многим ересью. Ново и дико было то, что критик признавал учителями общества уже не одни гениальные или очень крупные таланты, как прежде, а и всю безымянную массу литераторов и деятелей, разработывающих вопросы жизни и времени по мере сил своих и понимания. Первая, усмотревшая новое направление Белинского, была, конечно, очень чуткая к видоизменениям его мысли славянофильская партия. Она объявляла все учение о беллетристике прославлением публичной «болтовни», принижением серьезных тружеников в пользу «горланов». Мне самому приходилось слышать от некоторых – и не безвестных – лиц этой партии замечание, что поставление беллетристики на одну доску с поэтическим трудом похоже на оскорбление «святого духа».
Московским умеренным западникам новая пропаганда Белинского не показалась ни очень новой, ни такой страшной для дела образования: они знали участие беллетристики в создании общего умственного строя современной Европы. Притом же внутри круга жило убеждение, что нападки врагов Белинского порождены просто недоразумением, у многих даже и сознательным, ибо преследователем художественности, чистого творчества и серьезного труда нельзя было его и представить себе. И они были правы, как доказал восторг Белинского при появлении в том же 1845 году, еще в рукописи, «Бедных людей» Достоевского, которых он считал на первых порах замечательным художническим произведением{138}.







