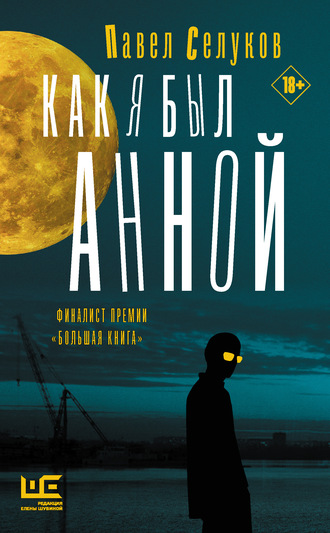
Павел Селуков
Как я был Анной
© Селуков П. В., 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
Мальчик
Жил в одном селе мальчик с внимательными глазами. Он видел ими красоту и уродство, как люди видят цвета, если б цвета что-то означали, если б цвета могли шокировать или окрылять. Мальчик часто ходил в лес, где лежал щекой на мхе, и трогал кору, и смотрел в небо, где синь сменяли облака, а облака – звёзды. Полежав так, мальчик возвращался в село, где хлюпала грязь, бурели избы и сортиры, а отец мазутными руками чинил уазик, чтобы ехать на нём в город мимо чахлых деревцев, надышавшихся с рождения выхлопными газами.
Мальчик был в городе трижды. В первый раз он увидел трубу, из которой шёл сизый дым в небо и там таял. Во второй раз он увидел бабку в переполненном автобусе. Бабка смотрела перед собой, отирая шапкой пот с морщинистого лица. В третий раз мальчика привезли на рынок и надевали на него в палатках куртки и штаны. Дул ветер, шёл дождь, пузырились лужи, и холодные пальцы продавщиц сновали по его телу, натягивая и снимая вещи. Лужи, оживлённые дождём, были красивыми, а всё остальное – нет.
Очень скоро отец заподозрил мальчика в непригодности к жизни. Мальчик всё делал очень долго и хорошо, а надо было быстро и без выпендрёжа. В пятнадцать лет мальчик колотил забор. Столбы вкопал отец, он же прибил верхние и нижние перекладины. Мальчику надо было только приколотить уже напиленые штакетины перпендикулярно земле, одна к другой. Мальчик прибивал их месяц. В каждой досочке он видел особую досочку, которой подходит другая особая досочка с такими же выемками, сучками и изгибами. Если б люди так подбирали себе пару, как мальчик подбирал досочки, на земле наступило бы всеобщее счастье или никто бы никогда не женился. Отец рассердился на мальчика, обозвал его лентяем и копушей, а потом взял молоток и за полдня наколотил забор. Забор получился обычным, с щелями, где в палец, где в два, но он был. Ночью мальчик взял гвоздодёр, оторвал тяп-ляп приколоченные доски и прибил их по своему разумению. Он очень страдал от того, что приходилось спешить, поэтому его разумение отразилось в заборе слабо.
Кроме того, мальчик увлёкся растениеводством. Он выращивал цветы, подвязывал хилые ручки смородины, а картошку сажал вдумчиво и медленно, что тоже не радовало отца.
В школе мальчик учился хорошо, но странно. Он не мог пропустить пример, который у него не получался, и решать следующий, потому что контрольная, застревал на первом и получал двойку. Терзал он и учителя литературы, особенно в седьмом классе, когда проходили Нагорную проповедь. Например, мальчик мучил его эпиграфом к рассказу Андрея Платонова «Юшка», подбирать который надо было из Нагорной проповеди.
Когда на мальчика злились и отец и учителя, он уходил в лес. Зимой мальчик лепил снежки и подбрасывал их вверх, наблюдая, как они падают. Или любовался причудливым инеем на стволах сосен. Летом, весной и осенью он ходил к большому муравейнику смотреть, как живут мураши. Или сидел на берегу Морвы, очарованный бесконечным течением воды. Или гулял по полю с коровами, которых можно было гладить и читать в их влажных глазах спокойную ласку. Коровы напоминали мальчику Иисуса Христа.
В семнадцать лет мальчик окончил школу и поехал в город учиться и недоедать. Отец и учителя были стыдливо рады его отъезду. Мама мальчика, наверное, не была бы рада, но она умерла, и из неё вырос папоротник. Отец хотел выдрать папоротник, но мальчик не дал, подозревая между всеми ними связь. «Что ещё за связь?» – спросил отец. Мальчик объяснил: «Ты встретил маму, и из мамы вышел я. Потом мама умерла, и из неё вышел папоротник. Не надо его рвать, он из её живота растёт. Вы и так уже меня вырвали». Отец, выслушав эту чушь, выругался, однако папоротника не тронул.
Приехав в город, мальчик сдал ЕГЭ и поступил на истфак Пермского университета. Ему выдали студенческий и поселили в общагу. В общаге все пили, очень много болтали и хотели девушек вслух. Мальчик с трудом выносил эту трескотню и невозможность побыть одному, когда хочется. Недалеко от общаги была железная дорога. За железной дорогой текла Кама. Мальчик любил там бывать, глядя, как железные «цапли» черпают из воды песок. Нашёл он и лес. Конечно, это был не сельский лес, а городской, за Дворцом культуры железнодорожников, но там водились разные птицы, ручные белки запрыгивали на плечо, и был маленький пруд, где плавали утки.
На втором курсе мальчик влюбился в девушку. Все её звали Машей, но мальчик называл Марией, столько библейского света исходило от её лица, как ему казалось. Мальчику хотелось взять Марию за руку и показать ей лес и Каму, познакомить с белками и птицами, рассказать про ласковых коров и показать, как течёт Морва. Мальчик ходил за Марией светлой тенью и однажды с ней заговорил. Они стали друзьями и дружили целый год.
Через год мальчик сказал Марии, что любит её, а Мария сказала мальчику, что не любит его и уезжает учиться в Петербург. И она действительно уехала в Петербург и вышла там замуж, и родила ди-тя, и нашла своё счастье. На прощание она подарила мальчику перочинный ножик, очень красивый, изготовленный французской фирмой «Лайоль». Она специально его купила, потому что мальчику нравились перочинные ножики. Мальчик же, как ни странно, тоже нашёл своё счастье, потому что любил Марию всю оставшуюся жизнь. Он любил её, преподавая в университете, любил, женившись на другой женщине, любил, наматывая круги по психиатрической больнице под галоперидолом, любил, вернувшись в родное село, чтобы похоронить отца рядом с матерью.
В 2044 году, умирая в своей кровати одиноким больным пятидесятисемилетним стариком, мальчик вовсе не был одинок, потому что в любой момент, стоило ему только пожелать, перед ним возникал образ Марии, и он говорил с ней и улыбался. А ещё у него был её ножик, который он сумел пронести через все житейские бури. Мальчик гладил его перед сном, сжимал маленькую рукоять, ловил солнце на лезвие и пускал зайчиков на потолок, преображая тёмную комнату.
Я это всё знаю, потому что купил дачу в том селе и хоронил мальчика. Тесный гроб, французский «Лайоль», две гвоздики и очень много света. Таким мне запомнился тот день.
Эмигрант из Беднолэнда
Десять лет назад на улице Сибирской в здании бывшей типографии блистал лучший клуб Перми «Ветер». Там же находились ресторан «Санта-Барбара» и клуб попроще – «Блэкбар». «Ветер» посещала золотая молодёжь, редкие красавицы, заезжие звёзды и спортсмены.
В ту пору в «Ветре» работал и мой друг Борис на так называемой внутренней охране – сидел за столом в коридоре и досматривал вышибал, официантов и барменов, чтобы они не пронесли в клуб спиртное. Разница между магазинными ценами и клубными была огромной: официант мог купить бутылку водки за триста рублей и в ту же ночь перепродать за полторы тысячи.
Борис работал по графику сутки через двое. Я знаю, что до этого он пережил какое-то страшное горе, сильно пил, был слегка не в себе. Искал то ли смысл жизни, то ли истину, без которых, видимо, применить себя не мог. А потом связался с христианством, где обрёл прощение, не знаю уж за что, стал повсюду ходить с Библией, бросил пить и ругаться матом, располнел и нашёл наконец-таки долгожданную работу.
Работу Борис искал мучительно, потому что в свои двадцать четыре года диплома никакого не имел, слова «менеджер» не понимал, а к торговле относился как к чему-то грязному, не умея понять, почему покупка задёшево и продажа задорого называется делом честным. Мытарства Бориса продолжались до тех пор, пока он не встретил Славу – мутного мужика, который поставлял охранников в питейные заведения Перми. Понятия не имею почему, но Слава проникся к Борису и устроил его в модный кафетерий на улице Ленина.
На первую смену Борис пришёл обритым под машинку. В брюках, рубашке и пластиковых туфлях из социального магазина. Ещё его волновали красные пятна на лице, которые нет-нет да высыпали. На фоне французских окон, диковинных растений в кадках и европейского интерьера Борис смотрелся эмигрантом из Беднолэнда. Как вы понимаете, проработал он там недолго. Через три часа явилась хозяйка кафетерия – девушка холёная и эффектная, а ещё через час приехал Слава с мрачным застывшим лицом. Он позвал Бориса за дальний столик, усадил и сказал:
– Хозяйка тебя уволила, извини.
Борис очень расстроился:
– Это из-за одежды, да?
Он умел спрашивать, как бы это сказать, напрямую, что ли. Слава уставился в стол и не решился соврать:
– Она сказала, что ты страшный. Урод, короче.
По лицу Бориса пробежала дрожь и оборвалась на подбородке. Слава первый раз столкнулся с такой причиной увольнения, ему было не по себе. Он отхлебнул кофе и сказал:
– Не бери в голову, Боря. Она сука, понимаешь? Сука конченая. Семьсот рублей смена, Брэда Питта ей, что ли, подавай?! Ты нормальный пацан. Ты не думай…
Борис достал из кармана маленький блокнот и коротенький карандаш. Пролистал его и посмотрел на Славу.
– Скажи мне, как её зовут?
Слава насторожился:
– Тебе зачем?
Борис показал глазами на блокнот:
– Это мой молитвенный лист. Я буду за неё молиться.
Слава помолчал, переваривая.
– Ты христианин, что ли?
– Да.
– Ладно. Как знаешь… Ольга Ерёмина.
Борис записал в блокнот и протянул Славе руку.
– Спасибо, что попытался мне помочь.
Слава руку не выпустил.
– Подожди! Давай я тебя в «Ветер» устрою? Я директора знаю. Давай, а? Сиди здесь, я щас позвоню!
Слава вскочил и ушёл на улицу звонить. В этот же день Бориса взяли на внутреннюю охрану в клуб «Ветер». Директор Михаил Львович посмотрел на него и велел завтра к девяти утра выходить на смену.
Надо сказать, Борис не любил афишировать свою религиозность. Например, в первую смену он ни у кого не спросил, где тут можно помолиться, но самостоятельно облюбовал щитовую и в обед преклонил колени там. Борис всегда молился на коленях, потому что в Евангелии написано: «Войди в комнату, притвори дверь и преклони колени свои», даже если комната – не комната, дверь – не дверь.
С планировкой клуба и новыми обязанностями Бориса знакомил сменщик Андрей. Слегка взбудораженный от недосыпа и радостный от обретения нового, третьего, айфона, который он на днях взял в кредит, Андрей не выпускал его из рук, гладил экран большим пальцем и лишь изредка кривился, когда некстати вспоминал о двенадцатитысячной зарплате и ежемесячном платеже, но платёж был далеко, а айфон приятно грел руку, поэтому Андрей не заморачивался.
На первом этаже находился пост охраны – стул, стол и журнал посещений, дальше – винтовая лестница на второй этаж, «Санта-Барбара», щитовая, туалет и сам «Ветер». Главной и почти единственной обязанностью охранника-вахтёра был досмотр персонала перед и после смены.
Мало-помалу Борис втянулся в жизнь клуба. Познакомился с завпроизводством Фирой Сергеевной, кормившей его вкусными обедами и даже деликатесами вроде гаспачо. Фира Сергеевна была весёлой сорокапятилетней женщиной с полными руками и тёплой улыбкой.
Познакомился он и с ночной охраной, вернее, с вышибалами – мужиками крутыми и спортивными, приходившими в клуб только по ночам пятниц и суббот. Особенно среди них выделялись Олег и Миша. Олег прошёл Иностранный легион и напоминал утёс, спокойный и равнодушный, который не сдвинешь и ничем не проймёшь. Миша имел корочки мастера спорта по боксу и жадно смотрел на танцовщиц.
Главной среди них была Жанна – стройная смуг-лая брюнетка, уверенная и яркая, как из фильма. Ещё Борис познакомился с официанткой Алёной. Двадцатилетняя, рыжая, воздушная, она училась на актрису в институте культуры, а здесь подрабатывала. Вообще, Борис не то чтобы со всеми подружился, вначале он просто узнал, как кого зовут, и с беседами не навязывался, но со всеми здоровался, улыбался приветливо и увлечённо читал книжки.
В первую же смену Борис попросил у Михаила Львовича разрешения читать на работе книги. Михаил Львович на ходу кивнул и куда-то побежал, он всегда куда-то бежал, такой уж он резвый человек. На работу Борис принёс три книги: Библию, «Идиота» Достоевского и «Аврору» Якоба Бёме. Захватил он и толстую тетрадь, куда выписывал стихи и фразы для дальнейшего обдумывания. Первой это собрание сочинений заметила Фира Сергеевна. Она ничего не сказала, только в смены Бориса стала часто выглядывать с кухни, как бы проверяя – читает или нет? Борис читал. К нему присматривались.
Вскоре его упоённое чтение, отчуждённость, то, что он какой-то не «свой», заметили все. По клубу поползли слухи и шепоток. Сектант, свидетель Иеговы, старовер, протестант, вольтанутый. Борис вдруг начал всех раздражать самим фактом своего присутствия. Он не слушал музыку, не играл в телефон, не поругивал начальство и низкую зарплату, не курил, был вежлив, предупредителен и ровен до тошноты. Танцовщицы, на которых пялилось всё мужское население клуба, вообще записали Бориса в геи, потому что он единственный не пялился, а девушки это хорошо чувствуют. Однако бармен-гей их предположение опроверг, геи такие вещи тоже чувствуют. Тогда Бориса дружно записали в загадочные асексуалы.
Невзлюбили его и мужики-вышибалы. Они приходили на пост погреться и травили байки про бухло и тёлок, которым Борис ни разу не улыбнулся, пробовали угостить его изъятым на входе виски, но и угостить у них не получилось. В их кругах Борис считался высокомерным типком.
Однако сильнее всего его возненавидели бармены и официанты. Борис наотрез отказался вступать в сговор по продаже магазинной водки, но и начальству ни на кого не донёс, отчего прослыл гнидой, но благородненькой. Через месяц персонал клуба свыкся, что в смену Бориса проносить что-либо бесполезно. «В пятницу кто? А, блин, истукан этот! Ладно, давай в субботу». К февралю новый охранник превратился в природное явление вроде дождя или гололёда.
Однажды шеф-повар «Санта-Барбары» и Фира Сергеевна собрались ехать на важный гастрономический конкурс. Борис, как обычно, читал за столом и что-то выписывал. Когда все приготовления были закончены, к нему подошла Фира Сергеевна и тихо сказала:
– Помолись, пожалуйста, чтобы у нас всё получилось.
Борис кивнул, сходил в щитовую и помолился. Назад Фира Сергеевна вернулась, окрылённая победой. Я не приписываю эту победу молитве Бориса, я приписываю её мастерству поваров, но Фира Сергеевна сочла это заслугой Бориса, растрезвонив на весь клуб, что он помолился – и вот.
Был вечер пятницы, когда по винтовой лестнице спустилась Жанна в коротком невесомом платье, прошла мимо стола и юркнула на улицу покурить. Борис уже много раз наблюдал эту картину бестрепетно. Но сейчас он взял тёплую куртку, которую выдавали охранникам на зиму, вышел за Жанной и утеплил её.
Жанна вскинула бровь.
– Как мило. Спасибо.
– Пожалуйста.
Борис пошёл назад, но Жанна взяла его под руку.
– Постой со мной. Или тебе холодно?
– Холодно, но я постою.
– Давно хотела спросить… Тебе сколько лет?
– Двадцать четыре.
– А как будто пятьдесят.
Борис промолчал, не увидев в этом высказывании вопроса. Жанна затушила окурок.
– Ты из какой секты?
– Я не из секты. Просто Библию читаю.
Жанна обвила шею Бориса руками.
– Скажи честно – я тебе нравлюсь?
Борис посмотрел ей в глаза.
– Я тебя люблю.
– Что?! Ты реально псих!
Жанна рассмеялась и ушла в клуб. Борис вернулся и продолжил чтение. Его волновала антиномия кальвинизма и арминианства, но я в этом не понимаю, поэтому забудем.
В следующую выходную смену, около двух часов ночи, на пост пришёл погреться легионер Олег. Он вытащил из кармана початую бутылку виски, отхлебнул, спрятал и спросил:
– Я вот в детдом вещи вожу, я в рай, думаешь, попаду?
– Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.
– Это чё щас было?
– Послание к Ефесянам, глава вторая, стих восьмой.
– Ну, ты, блин, и задрот! Выпиши мне.
Борис вырвал из тетрадки листочек, записал стих и отдал Олегу. Тот взял, посмеялся, пошевелил губами и вышел.
Очень скоро у Бориса появились и другие собеседники. Людей прибивало к нему, как волны к берегу. Как-то ночью к нему подошёл боксер Миша, дождался, когда они остались вдвоём, и выпалил:
– Моя мать проститутка, но она святая!
Миша весь напрягся. Борис посмотрел на него и кивнул. Миша «завис», постоял немного и ушёл. Потом он будет часто приходить со своим стулом, сидеть неподалёку и жать ручной эспандер.
На правах юродивого, явления, кстати, чисто русского и в других странах не встречающегося, Борис просуществовал до весны. Весной, а это был апрель, к нему на стол села официантка Алёна. В её глазах виднелись слёзы. Она сразу взяла быка за рога.
– Научи меня верить.
– Зачем?
– Я хочу во что-нибудь верить. Раньше я верила, что стану актрисой, а теперь не верю.
– Почему?
– Меня препод разнёс… А у меня капустник… Работа эта… дурацкая! Ненавижу всё! Ты ещё тут! Сидишь как каменный! Научишь?
– Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Чему тут учить?
– Да-да, это понятно! Вот послушай, препод мне говорит…
И Борис слушал, он всех слушал, иногда что-то советовал, но очень осторожно и больше молчал.
Как-то в мае они с Алёной пошли перекусить в «Виват-буфет», где обычно собирался народ после клуба. Алёна снова прицепилась к Борису с Библией. Борис достал книгу из рюкзака.
– Я помолюсь, если ты не против.
Алёна заворожённо помотала головой. Борис поставил локти на стол, сцепил пальцы в замок, закрыл глаза и прочёл «Отче наш», не повышая тона, но и не сбавляя, и не обращая внимания на многочисленных посетителей. Когда он открыл глаза, Алёна сидела с пунцовыми щеками, прикрыв глаза рукой. Борис спросил:
– Что случилось?
– Не знаю, стыдно. Все смотрят.
– Ну и что? Пусть смотрят. Я не сделал ничего стыдного.
– Как ты не понимаешь!
– Это ты не понимаешь.
– Чего я не понимаю?
Борису многое хотелось сказать Алёне: стыдно плясать на дискотеке под амфетамином, стыдно трахать глазами женщин, стыдно напиваться и блевать, стыдно превращать себя в сексуальную вещь, стыдно не стыдиться, а молиться не стыдно. Но вовремя вспомнив, что это не её, а его стыд, он убрал Библию. Они мило поели и разошлись по домам.
Летом клуб закрыли на ремонт, и Борис ушёл. Я много о нём думала, читала Библию, а вчера утром случайно встретила на остановке.
Я его спросила – равви, почему у тебя всегда так происходит? А он ответил – не может укрыться город, стоящий на вершине горы, и, зажегши свечу, не ставят её под кровать, а ставят высоко, чтобы светила всем людям. Я его спросила – равви, какое страшное горе ты пережил, что оно сделало тебя таким? А он ответил – если я скажу тебе, ты будешь завидовать и жалеть, а это грех.
Я его спросила – равви, почему нельзя говорить, учить, проповедовать, а можно только показывать и являть? А он ответил – потому что говорящий не знает, а знающий не говорит.
Я его спросила – равви, как мне закончить этот рассказ? А он ответил – ничего нельзя закончить, Жанна, смерти-то нет.
Святая троица
Полетел я на юг, у меня там домик арендованный, а вокруг него садик, навес тенистый из лоз виноградных и маленькие старые гипсовые скульптуры ангелочков по саду разбросаны, вульгарные, конечно, если отшкрябать, а так, с налётом времени, с этакой патиной, очень премилые, иные даже страшные. Страх – обильное чувство, ему можно доверять. Если какая-то штуковина способна его вызывать, значит, не совсем она и халтура, пусть даже, может быть, как халтура и задумывалась. Тут для примера набоковская «Лолита» подходит. Роман грязный, глупый, для подростков, дам и онанистов, однако Набоков большой мастер, вот и слепил из похоти высокую поэзию. Похоть, она ведь как страх – жутко настоящая. А Хронос, если без обиняков, мастер позабористее. Нужны бы нам были эти китайские вазы, не будь им две тысячи лет? И позарился бы я на этих ангелочков, если б не патина? Когда вещь обрастает опытом, это уже и не вещь, а целый миф.
С людьми схожие метаморфозы происходят. Прабабка моя, Ольга Григорьевна, та, которая 1912 года рождения, старуха, в сущности, вздорная, потому как из бывших уездных актрис. Да ещё и жарила на сковородке всё подряд, даже то, что приличные люди варят или запекают. Однако рассказы её – про Колчака, который в Пермь пришёл, или про то, как хлеб в подполе морозили, а отец его потом топориком на куски рубил, или про войну, как про то, как она на работу, на завод, проспала и за это чуть в лагерь не загремела, но вывернулась – ушла медсестрой на фронт, где чего только не случилось, особенно любовь, слушались мною с тем же вниманием, как и «Мифы Древней Греции». Ольга Григорьевна, когда это всё вспоминала, враз молодела и из глупой старухи превращалась в свидетеля эпохи, с россыпью неповторимых бытовых мелочей, которые, как мне кажется, лучше любых анналов передают дух того времени.
Но вернёмся к ангелочкам в саду. Летел я на юг, хоть и один, хоть и с полупустым чемоданом, хоть и с решительным намерением вина в рот не брать. Зовут меня Владимир Павлович Вокулес, сам я из бывших немцев, мелкобуржуазных, ничем примечательным в истории России не отметившихся. Разве что была у нас аптека, да и ту пожгли в 1917 году, перепутав с пьяных глаз Вокулеса с Мойшей, то есть немцев с евреями. Как говорил мой отец, «обознатушки-перепрятушки», но перепрятушек не вышло. Оглядываясь назад, то есть совсем назад, за пределы своей биографии, я понимаю, что приставка «немец» сгинула в нашем роду задолго до моего рождения, в конце 30-х, когда национальности почти исчезли, уступив место слову «коммунист». Меня к немцам и вовсе отнести трудно, потому как говорю и думаю я исключительно на русском, а немецким владею на уровне протестантских гимнов, которые на той неделе распевал в кирхе на Екатерининской.
На юг, да ещё одиноко, я поехал не от хорошей жизни. Любой человек, осиливший любую из книжек Ремарка, рано или поздно задаётся глупым вопросом о смысле жизни. Я им тоже задавался, но потом окончил школу и зажил равнобедренно. Вернее, попытался. Под ногами моими было неширокое, но крепкое основание из протестантской этики и воспитания вообще, а вверх взмывали две тяготеющие одна к другой прямые линии – труд и семья. Я специально, не только здесь, но и везде, избегаю слов «карьера» и «работа», чтобы не потерять из виду суть своего дела, а именно – труд. Кому-то оно может показаться ветхозаветным, но точнее я придумать не смог. Очень прямо, ровно и ясно представлялась мне жизнь из одиннадцатого класса. Тогда я действительно думал, что это мне именно жизнь представляется, а не биография. Юности свойственно распространять свою судьбу на всю жизнь. Но даже биографию свою, клочок этот, микрозаплатку, ровной сделать мне не удалось.
Закачало, замотыляло меня ещё в детстве. Урывки, урывки… Пух тополиный в сандалии лезет, дом розоватый, два этажа, пёс Буран чумку подхватил, отец с ружьём, мать уехала с челноками, «Денди» купили, продали лишний холодильник «Бирюса». Отец с покупателем, чужим дядькой – руки-грабли, ворочают его по деревянному полу, а мама вздрагивает, губы жуёт, как же – краска-то слазит, мужик гу-гу-гу, отец бу-бу-бу, а у меня чувство детское, пустое, но острое, как жало осиное, – рушится мой мир, растаскивают. Дядька этот, отец, своими руками, ужас, слёзы, а объяснить не могу, мал, лепет, бессвязность. Во всём бессвязность. Или вот девочка Катя. Стройка, упала, оцарапала коленку. Плачет из синих глаз на загорелую кожу. А я подорожник принёс, грязный, пыльный, облизал, не сомневаясь, присел, подул, налепил. Так и сидим. И всё так важно, так значительно – и холодильник, и подорожник, и небо, каким оно тогда было, и запахи – пироги бабушкины из духовки, гудрон горячий. Невозможно это не полюбить, как невозможно поверить, что будет большее горе, чем продажа холодильника, и будет большее счастье, чем прилепить подорожник и дуть на коленку, нежно держа девочку за руку.
Я нарочно таким языком это всё написал, чтобы вы поняли, какая страшная сентиментальность владела мною с детских лет. Я думал, она владеет всеми, я думал, все охочи переживать переживания и страдать страдания, и совершать внутри себя бурю ради самой бури, ради остроты. Дети, да и подростки редко способны смотреть на себя со стороны и мерить себя тем мерилом, которое впоследствии назовётся «общим», хотя общим никогда и не будет, а будет лишь представлением об общем, таким же далеким от истины, как перевёрнутое изображение в глазах младенца, или плоская земля, или то, что солнце вращается вокруг земли.
Из этой тяги к сентиментальности, казалось, ничего вылиться не могло, однако вылилось очень многое. Я, как бы это сказать, стал легко подвергаться трагическим идеям и трагическому образу. Мне нравились книги, где герой погибает в конце. Особенно мне нравилась Библия. Возможно, я превратно понял христианство. Жизнь рисовалась мне недолгим, но предельным напряжением сил, оформленность которым придавала смерть. Я, например, горевал по Артюру Рембо, буквально обвиняя его в том, что он не умер в Париже, на руках Верлена, в зените своих возможностей. Жизнь торговца, которую он вёл дольше жизни поэта, виделась мне оскорблением красоты. Красота очень быстро стала ключевым понятием моего существования. Я украл красоту у детства, потому что моя способность восхищаться необычным разводам в луже до сих пор перекрывает способность цинично не удивляться ничему.
Собственно, трагедия заинтересовала меня и проникла под кожу не столько из-за нравственного конфликта, который, кстати, не всегда в ней и есть, сколько из-за красоты, из-за того, что красота – это предельное напряжение человеческих сил.
Я искал трагедии, как бедуин ищет оазис. Сначала я нашёл её в подростковой безответной любви, потом в бессмысленности бытия, позже – в незнании своего призвания. Вместо того чтобы жить равнобедренно, раздваиваясь лишь между семьёй и трудом, как выдумалось мне ещё в школе, я зажил рвано и дико, не умея заинтересовать себя надолго чем-либо, кроме нарушения границ и бегства от всякой жёсткой структуры, внешней или внутренней. Я физически не мог принять запретов, кроме, разве что, самых очевидных, вроде красного огонька светофора. Постепенно, не сразу, из человека, ищущего трагедии, я превратился в персонажа трагедии, а моя жизнь – в некое подобие пьесы. Многие люди играют роли бессознательно, свою я играл осознанно. В попытке достичь правдоподобия я не гнушался ничем. Я спасал девочку Катю, ту самую, с подорожником, от наркотической зависимости. Я даже придумал учёного Тома Уайдлера, который в начале 70-х специально подсел на героин, чтобы пройти дорогой выздоровления, вжиться в шкуру наркомана, побороть зависимость и, наконец, помочь другим сделать то же самое. Во мне всё переплелось. Я хотел переживать трагедию, хотел крайних состояний, хотел бунта и в то же время хотел служить людям, спасать их, бросить себя на алтарь, закрыть грудью дзот, самораспяться на кресте.
Всё это мне казалось большим. Точнее, только ради большого я хотел жить, и, конечно, сам себе я казался большим, но большим не был. На самом деле во мне поселилась червоточина, противоречие, потому что я хотел выйти из нормы, взять за руки отбившихся от стада и вернуть их к норме, хотя сам ей и не думал покоряться.
Чувство особости, сверхчеловечности, в духе Ницше, то ли из-за материнской гиперопеки, то ли из-за того, что памятью, умом и ловкостью я превосходил многих своих сверстников, рано поселилось во мне, направив помыслы в оригинальное русло. Я хотел другим того, что отвергал сам, и в этом желании был бесконечно лицемерен. К двадцати пяти годам я сменил с десяток профессий и почти растворился в наркотиках, алкоголе и азартных играх. Я стал плоским, неинтересным самому себе. Те, кого я спасал, или умерли или встали на ноги; я же копошился на дне, с каждым днём ощущая, как тают мои силы, столь необходимые для рывка. Лицо моей жены, молодой ещё женщины, всё больше напоминало библейский лик, так точно и глубоко проступили на нем росчерки горя.
Отчаявшись совладать с собой, я начал вести дневник. Я хотел обличить самого себя, нащупать хоть какую-то правду, обнажиться, дойти до сути, перестать играть и решиться жить. Знаю, моё повествование звучит горестно, но жизнь моя – ни тогда, ни сейчас – горестной не была. Скорее, она напоминала качели – то мерно раскачивалась, то вдруг замирала, а то рвалась из рук, взмывая «солнышком».
К тридцати пяти годам мой быт оформился в однокомнатную квартиру, доставшуюся мне от бабушки, двух котов, призванных заменить нам с женой детей, ведь настоящих детей я заводить боялся, и работу фрилансера, потому что только с неё меня не увольняли за периодические загулы. В тот день я лежал в кровати, рядом со мной лежали кот, кошка и выключенный телефон, потому что я снова пытался всё бросить, прекрасно понимая, что через три дня бросать резко передумаю.
Иными словами, жизнь шла своим чередом, кроме одного момента – я мучительно пытался понять, почему вечером я вполне разумен и творить безумие не хочу, а утром просыпаюсь без аппетита, «вздрюченным», как говорит моя жена, и мне вдруг становится противна жизнь, а внутри ворочается такая боль, что без водки и наркоты ее никак не унять.
Но я уже знал, что со мной творится. Путь к правде оказался извилистым – через реабилитационные центры, колдуна, одного экстрасенса и двух цыганок. Я лечился от алкоголизма и наркомании, как и предписывало общество, однако в глубине души я понимал, что они лишь следствие, причина в другом. Эту причину озвучил мне врач-психиатр – биполярное аффективное расстройство личности. Он же назначил мне таблетки, которые я отверг после первого же приёма, так они меня обесчеловечили. Болезнь моя оказалось запущенной, поскольку я уже пережил множество приступов без должного лечения. Я узнал об этом на той неделе. На секунду мне стало легче, а потом меня охватил ужас. Оказывается, я живу с этим расстройством с пятнадцати лет. Почти всю сознательную жизнь. И вся моя философия, поиски, любовь к трагедии – не что иное, как попытка затушевать болезнь, обратить её в мировоззрение и жест, накинуть пурпурную тогу на заурядную хворь.
Говорят, правда освобождает. Меня правда обескуражила. Выходило, что я не знаю самого себя, что я живу с посторонним человеком, больным человеком, которому подчинён. Как понять, какие поступки я совершил по своей воле, а какие под действием биполярки? Как отличить свои мысли от мыслей, нашёптанных болезнью? Я расползался на части. Но даже за этим по-своему честным расползанием я без труда угадывал свою лисью подлость. Она говорила мне – ты не плохой, ты не алкаш и не наркоман, возомнивший о себе, ты просто болен. В прежние времена я кивнул бы этим речам и прослезился, это ведь такая трагедия – психическое расстройство. Тут я ударился в воспоминания, силясь обнаружить в них истинно «своё», а не его, не биполярного чудовища. И я вспомнил. Вспомнил, как в детстве бабушка читала мне Библию с картинками и в какой восторг привёл меня маленький орга́н в нашей кирхе, нездешние его звуки. Свят, свят, Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней! Тогда я тянулся к светлому христианскому мифу и был счастлив. Сейчас я решил потянуться к нему снова. Вернуться туда, где я ещё был собой, а не воплощением болезни.






