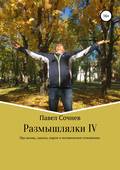Павел Николаевич Сочнев
Армия
Учебный взвод
Новобранце в армии всегда чему ни будь учат. Например, армейской дисциплине, правилам, уставам, стрелять… За два года далеко не безупречной службы мне довелось стрелять два раза. Из автомата. По три патрона. Ни одна из шести, выпущенных мной пуль, в мою мишень не попала. Зато они (пули) взвивали красивые снежные фонтанчики из лежащих перед мишенью сугробов. Так что можно сказать, что стрелять меня научили, а попадать – нет. Но в радиотехнических войсках радиотелеграфистам, планшетистам, телефонистам и простым телеграфистам это умение было совсем ни к чему.
В Советской Армии были специальные учебные подразделения. В больших и специальных «учебках» учили разным военным премудростям, специальности, стрелять и быть сержантами. А в мелких взводах, типа нашего, всему тому же, но без стрельбы и возможности стать сержантом. Курсы в формате «взлёт/посадка», а остальное – уже по ходу службы. Я был вот в таком взводе.
К обучению премудростям солдатской жизни (уставы, шагистика, обращения к начальству, хоровое приветствие, дежурство в наряде, ежеутренняя общая физподготовка и т.д.) добавились обучение морзянке (слушать, записывать, передавать ключом типа «коромысло»), чистка плаца от снега и льда, чистка картошки (раз в три дня), редкие, спонтанные хозработы, которые могли поручаться как поощрение или назначаться в качестве наказания. Поощряли реже. Наибольшее количество времени и усилий отдавалось морзянке. Мы дружно то старательно пели, долбя ключом, то старательно записывали, то что долбит сержант.
Однажды в казарму забежал одногодка, который уже почти освоился в роте обслуживания, я тогда был дневальным. Не удержавшись на натёртом до зеркального блеска полу, он растянулся во весь рост. Подивился зеркальности пола. А услышав одновременный стук двадцати ключей, который был похож на кваканье, и хоровое пение (курсанты не орали, они старательно пытались петь хором) типа «Щааа – ваам – не – щааа» или «Само-лёёё-ти-ки». Тут же вынес вердикт: «Так и с ума сойти недолго». Вздохнул, набрал ведро воды, за которой зашёл, и, немного скособочившись, ушёл дальше переносить тяготы и лишения.
Пытаясь организовать мотивацию обучения, сержант, два раза в неделю, проводил контрольные. Он стучал ключом, мы – записывали. По результатам контрольной проверки, лучшие пять человек оставались в казарме, остальные отправлялись чистить картошку. Чистка картошки не была наказанием, это было обязательной повинностью, по, ошибочному мнению сержанта, равной наказанию.
С первого такого отбора, мы обменялись информацией и пришли к коллективному выводу, что чистить картошку, гораздо интересней, чем находится в пустой казарме, почти один на один с сержантом. Чистка картошки – это небольшая степень свободы от тех обязанностей, которые всегда были в учебном взводе. Следующие контрольные писались осознанно. Так, чтобы случайно не остаться в казарме. Я писал именно так.
Нормой чищенной картошки была эмалированная ванна. Обычная гражданская, большая, чугунная ванна. Иногда заходил повар или прапорщик, дежурный по кухне, и стращали тем, что если очистки будут толстыми, то заставят чистить очистки. Потом я ещё часто слышал эти угрозы и рассказы про реальные случаи, но сам на это не нарывался. И ещё нужно было начистить большую кастрюлю репчатого лука. Чистили разнокалиберными столовыми, не острыми ножами. Теми, которыми сервируют стол.
Я однажды случайно устроился очень неплохо. Почти не плача во время чистки лука, я мужественно брался за самое сложное и теоретически невыполнимое – за чистку лука. Здесь тоже было три премудрости.
– Во-первых, нужно было поупираться, типа «Что опять я то?»
– Во-вторых, во время чистки нужно было постоянно поддерживать соответствующее выражение лица героического, уже смирившегося, но, ещё немного живого, мученика.
– В-третьих, нужно было чистить не медленно, но так, чтобы кастрюля с луком наполнялась так же, как ванна с картошкой. Потому что, если почистить лук быстрее, то потом придётся чистить со всеми картошку. Вот и все премудрости.
Были и другие наказания, отрабатывая которые, солдаты и курсанты делают что ни будь полезное. Например, долбят туалет или отдалбливают лёд с плаца. В армии, не знаю, как сейчас, а тогда не было «специально обученных людей», которые выполняли бы за солдат хозработы. И солдат специально этому не обучали. Они обучались всему самостоятельно. Всему, что скажут делать.
Туалет был обычным, неотапливаемым сараем, водружённым над глубоко закопанной баржей. Получалось, что мы справляли нужду прямо в трюм этой баржи. Зимой, наша нужда, большая и маленькая, не долетала до нижнего уровня, а примерзала, к более ранней нужде. Извините, за подробности, но иначе сложно понять, для чего туалет нужно долбить.
Вот так, примерзая друг к другу, наши большие нужды росли горой из недр и достаточно быстро, поднимались на высоту отверстий. Малая нужда, делала эти растущие горы (в каждом очке своя), монолитными. Как только пики вершин появлялись из отверстия, на борьбу с ними отправляли или отбывающих срок на гауптвахте, или провинившихся, но, по степени вины, не попадающих под гауптвахту.
Однажды провинились я и Сашка. Сашка был самым родным сослуживцем, по географическому признаку. Во-первых, он был с Сахалина, жил (и живёт сейчас) в соседнем районе, во-вторых, из политехнического института, учился на Лесотехническом факультете. Мы, автомобилисты, их называли «дубами». Прикольный человек. Со своеобразным, постоянным чувством юмора. Наверное, тогда он был наказан за очередную свою шутку, а так как нас отправили вместе, я, вероятно, тоже в этой шутке участвовал. Потом его иногда привозили с точки в полк, для отработки на гауптвахте очередного его прикола. Но он и на гауптвахте тоже шутил. Над конвойными и офицерами. Вот такой вот неисправимый. Чувство юмора не только помогало ему жить, но и обеспечивало очень интересную жизнь. Шутки над собой, он тоже принимал с юмором. Ни на Сахалине, ни в институте мы друг с другом не встречались и даже не знали о существовании друг друга. А в армии стали почти родственниками.
Так бывает, когда уезжаешь из родных, знакомых мест. И чем дальше уедешь, тем более широким становится ареал роднения. Например, в райцентре, приятно увидеть односельчанина. В областном центре, случайно узнать, что случайный прохожий из того же района. В Хабаровске, те, кто с Сахалина, почти родня. А за границей, просто сограждане.
Хотя нет. С заграницей сложнее. Потому, что иногда и уезжаешь туда, чтобы не только посмотреть, как у них, но и отдохнуть от сограждан. Но это не все. Кто-то отдыхает, а кто-то радостно бросается с объятиями. Я не бросаюсь и стараюсь избегать радостных встреч. Точнее встречаюсь, иногда даже инициирую, но очень выборочно, так же, как и на родине. Однажды в Голландии, ко мне обратилась с вопросом молодая пара. Я ответил, перекинулись ещё парой фраз на английском и, уже отходя от них, меня посетила мысль, что это россияне. Или, если не россияне, то русские. Сейчас так бывает – русский, но не россиянин. Притормозил, прислушался – точно русские. Обошлось без объятий.
Я не помню, чего мы накосячили, но освободив нас от изучения морзянки (хорошо то как!), сержант бросил на туалет (это хуже и сложнее, чем морзянка). Вооружил ломом и лопатой, которые позволил снять с пожарного щита. Предупредил: «Только лом не упустите». Времени у нас было неограниченное количество – от «сразу после обеда», до ужина или пока не сделаем (т.е. без ужина и хоть до дембеля).
Предупреждая нас о том, что лом терять непозволительно, сержант, вероятно, сглазил этот момент. В один из ударов, когда огромный кусок фекалий отделился от вершины и полетел в недра баржи, лом выскользнул из рук и устремился туда же – в недра. Не знаю, что из них грохотало, лом или кусок, но звуки доносились секунд тридцать.
Судя по звукам, баржа была очень большой. Желания лезть за ломом у нас, естественно, не было. Лопата для продолжения работы не подходила, потому что вершины, по твёрдости были чуть мягче гранита. Но мы честно старались (минуты две), до тех пор, пока лопата не загнулась. Когда мы её выпрямили, она продолжала быть лопатой, но потеряла своё функциональное качество. Ну, не совсем, ею можно было бы копать мягкий, сухой песок, если набирать его понемногу.
Пришлось, изображая строй, пройти по территории полка, изучая расположения пожарных щитов, подходы к ним и наблюдение. Самым неохраняемым оказался пожарный щит штаба. Он лишился лома, который был один в один как наш утерянный, и был укомплектован нашей лопатой. А мы снова стали счастливыми (реально счастливыми) обладателями лома и лопаты.
До ужина успели. Работу сержант принял на «хорошо». «Отлично» у него бывало редко. Наш косяк был нами честно отработан. Репрессий за хищение и замену пожарного инвентаря к нам применено не было. Потому что, в поисках преступников, никто не додумался, что наглецы, покусившиеся на штаб (святую святых полка) могут быть в учебном взводе. А в теории, никакого хищения и не было. Так, перемещение имущества. Всё же так и осталось на территории. Даже улетевший в туалет лом.
Ещё один раз накосячив, мы с Сашкой были брошены на очистку плаца ото льда. Опять не помню, что сделали и вместе или поштучно. Косяков было так много, что все упомнить сложно, а наказаний меньше. Их помню почти все. Выговаривали всегда, для этого даже косячить не нужно было, а наказывали реже.
В этот раз нам были выданы два лома и всё. Сержант решил, что лопатами будет слишком удобно. Настолько удобно, что наказание будет воспринято нами как кратковременный отдых. Почти как курорт. А «ломиками плац подметать», это реальная отработка провинности. Задолбаемся точно, ну и плац немножко подметём.
Вышли такие на плац, а он где-то 20 на 50 или 70 метров. В общем большой и бетонный. Покрыт льдом и очень спресованным снегом. Нетолстым слоем. Не более пяти сантиметров. Попробовали отработать алгоритм, как быстро и хорошо почистить. Снежно ледовая корка откалывалась неохотно, небольшими кусочками. Настолько небольшими, что почти молекулами. И не от всего бетона, а только в месте удара.
Перекурили за трибуной. На всех плацах есть трибуны. На нашем была. Перешли на отработку алгоритма нехорошо, но быстро. Быстро не получалось, а нехорошо было настолько, что лучше бы совсем не долбили. Попробовали просто долбить, изображая отбойные молотки. Иногда откалывался лёд, иногда бетон. Расчищенная (отдолбленная) площадь росла неохотно. Практически не росла. Солнце садилось. Оно на севере, зимой, очень недолго освещает унылые пейзажи.
Объём работы был реально невыполнимым. А когда он оценивается именно так, то работа не выполняется совсем, если нет внешнего воздействия. Наше внешнее воздействие сидело в тёплой казарме и учило других курсантов морзянке. В отличии от туалета, вырубания дна у бочек и натирания линолеума, задание «долбить плац» относилось к категории «не нужно лучше, нужно чтобы задолбались».
Задалбываться нам не хотелось. Долбить лёд надоело. Просто сидеть за трибуной и курить, уже было холодно. И тут Сашка озвучил идею. Немного рискованную, но за неё не расстреляют и из армии не уволят, а жаль. Было бы такое наказание – уволить из армии за несоответствие… Решили воплотить идею в жизнь – «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское».
Быстро и, пытаясь тщательно, распинали с плаца снежно-ледово-бетонную пыль. Изобразили на лицах усталость и испуг и, подхватив ломы, бегом побежали в казарму. Я изображал усталость, а Сашка испуг. С его очень живой мимикой это было несложно. А в казарме сержант: «Всё отдолбили?!», «Никак нет, товарищ сержант!». Какой он нам нафиг товарищ? «Нас увидел подполковник, спросил, что делаем, похвалил и приказал вернутся в расположение, сказать, что он снял взыскание и продолжать учебный процесс!» То, что в части только один подполковник, мы уже знали. Звание подполковник было у командира полка.
«Он в штаб зашёл?» Опаньки, сейчас помощнику дежурного по полку позвонит и узнает, что никто в штаб не заходил. «Никак нет, прошёл куда-то мимо!» «Точно подполковник?» «Так точно. Две полоски, две звезды». «Хорошо, ломы – на место, сами – в класс». Прокатило. По ходу службы командир полка ещё пару раз меня выручал. Реально сам, а не в моих выдумках. Другие офицеры тоже, по мере возможности отмазывали меня от моих же косяков. Особенно ротный и замполит. Спасибо вам. Искренне. Без вашей заботы я бы с губы не вылазил. Но про это – позже.
А из шуток над Сашкой, запомнилась одна. В очередной раз мы вернулись с перекура, сержант, в это время, куда-то вышел из казармы. Сидим, делаем ничего. Вбегает сослуживец: «Сашка, сержант видел, как ты в курилке руки в карманах держал, сказал, что, если сам сейчас карманы не зашьёшь, он набьёт карманы гвоздями и прикажет зашить. На неделю».
Руки в карманах держать не разрешалось. Сержант так и угрожал: «Кого увижу – загружу гвозди в карманы, прикажу зашить, так будете неделю с гвоздями ходить». А в окно видно, что сержант вышел из столовой и быстро идёт в казарму. Сашка шил со скоростью промышленной швейной машинки. Ну, может быть не так быстро и, однозначно, не так качественно, но, когда сержант зашёл в казарму, карманы штанов были зашиты, а Сашка вместе со всеми стоял в строю.
То, что это шутка, он узнал через пару дней. Беззлобно посмеялся со всеми. А на следующее утро, одна штанина у шутника оказалась вывернутой наизнанку. Как он умудрился их вот так надеть и отбегать зарядку – тайна за семью печатями.
Легенда про то, что солдат одевается и раздевается за время горения спички, через неделю ежевечерних, многократных тренировок оказалась не легендой. Ещё через неделю оказалось, что за это время можно не только раздеться, но и аккуратно сложить обмундирование.
Иногда тренировки прерывались сержантом по техническим причинам. Например, однажды, летящий со второго яруса боец, в полёте задел головой светильник. Полёт был прерван. Оба (светильник и боец) рухнули в проход. Светильник немного помятый с разбитыми лампочками, боец слегка окровавленный. В белоснежных кальсонах и исподней рубашке, распластанный на полу и с кровоточащей на лбу раной. Практическая иллюстрация легенды об Икаре. Икара тоже остановил источник света. Но там было Солнце и насмерть, а здесь – красиво, громко, но не летально. Оценка сержантом умственных способностей пострадавшего, распространялась на всех присутствующих. И слышно её было далеко за стенами казармы. Это нормально, бедность словарного запаса часто пытаются компенсировать громкостью изложения мыслей.
Через полгода выяснилось, что за это, нереальное для гражданских, время можно не только раздеться, сложить обмундирование и забраться под одеяло, но и уснуть. Уснуть крепко, бессовестно и с ярким цветным сном. Но это было потом. О таких способностях своих организмов, мы ещё не знали. Наверное – это к лучшему. А ещё одевались мы так же стремительно. Крик сержанта или дневального, короткий грохот, похожий на раскат грома и всё – весь взвод построен.
Часть времени службы можно было бы провести в санчасти. Не важно сколько, хоть ночь, а лучше сутки или несколько суток. Без подъёмов/отбоев, зарядок, построений, бесконечного кваканья ключей, писка морзянки и хорового пения про самолётики, петипетушки, итолькоодна и прочий бред сумасшедших. В санчасть можно было попасть с температурой – это самый короткий, надёжный и наименее ущербный для организма путь.
Практика показала, что если съесть кусок сахара, обильно пропитанный йодом, то температура не поднимется, а язык станет коричневым и во рту ещё долго будет оставаться послевкусие йода. А если растолочь грифель простого карандаша и проглотить, то температура тоже не поднимется, зато повысится газовыделение. В тесном учебном классе, это сразу же становится достоянием общественности. Если этим способом пытаются воспользоваться два или три бойца, то концентрация не вредных, но ароматных веществ в воздухе достигает предельно допустимых норм. Поэтому через пару неудачных экспериментов, попытки попасть в санчасть, методом поглощения грифеля или йода, прекратились. А желание осталось.
Однажды меня «со товарищем» отправили делать из двухсотлитровых стальных бочек, открытые бочки. «Сотоварищем» был Никита. Настоящее имя у Никиты было Володя. А Никита он сам для себя придумал. Сам придумал, сам откликался. Никит было в учебном взводе двое и оба по паспортам и военным билетам были Владимирами. Откуда-то из деревень, крепкие, надёжные, особо не заморачивающиеся поиском смысла жизни. Непробиваемые для шуток. Но это про Никит. Дальше – про бочки.
Бочка вообще очень полезная в хозяйстве вещь. А когда у бочки вырубается верхняя часть, то её использование для перемещения и хранения ГСМ становится невозможным, но в хозяйстве открываются бескрайние перспективы. В ней можно хранить, что угодно (кроме ГСМ). В части в бочках хранили и перемещали, воду, песок, торф, грунт, иногда даже уголь.
Бочки были не чета современным. Надёжные, стальные, а не так как сейчас, почти из фольги. Сержант вручил молоток, топор и зубило. Объяснять подробно не стал. Весь инструктаж выглядел следующим образом: «Один держит зубило, второй бьёт молотком. Топор, для того, если молотком пробить не получится». Бочек нужно сделать три штуки.
Дело простое, понятное, ни разу до этого ни мной, ни Никитой не деланое. Бочки стояли у клуба. Зима продолжалась, короткий день – заканчивался. Всё это нужно было сделать до ужина. Часов у обоих, естественно, не было. Подошли, посмотрели, приступили.
Молоток и в казарме казался ненадёжным, а в деле показал себя как источник повышенной опасности. Во время третьего удара, сорвался с ручки и улетел в сугроб. Нашли, насадили, продолжили. Всё снова повторилось. Пока прорубили сантиметров двадцать, неоднократно заехали друг другу по рукам, изучили траекторию полёта молотка, научились от него уворачиваться, продолбили углубление в бетонной площадке, пытаясь поглубже насадить молоток на ручку. Приблизительные подсчёты показывали, что с такими темпами мы, если не замёрзнем насмерть и случайно не поубиваем друг друга, сможем попасть только на завтрашний ужин. А есть хотелось уже сейчас. Первые полгода в армии есть хочется всем и всегда. Можно не показывать вида, можно терпеть, но есть хочется. Тогда хотелось.
Решили продолжить бить не молотком, а обухом топора. Действительно, удар получился значительно сильнее – зубило прорубило целый сантиметр и улетело в бочку. Всё – приплыли. Попытки вытрясти его из бочки оказались безуспешными. Зубило вставало поперёк и никак не хотело выпадать ни через горловину, ни через уже прорубленную щель. Попробовали использовать вместо зубила топор. Удобнее, чем зубило, но прорубает меньше, а молоток также продолжает улетать. Тогда я, в сердцах, рубанул по бочке топором. И о чудо, сразу прорубил сантиметров десять. Почему раньше не додумались? Минут через десять или пятнадцать все три бочки оказались вырубленными. Положив бочки на бок, обухом топора загнули выступающие края, отдавая дань перфекционизму. Результаты работы, вероятно, не стали абсолютно идеальными, но учитывая сложившуюся обстановку – несовершенство инструментов, отсутствие опыта, зима, тёмное время суток, наличие мыслей о доме и о том, как хорошо было бы поесть, нелестных мыслей о сержанте, армии и самих бочках, они (результаты) приблизились к идеальным до теоретически невозможного состояния. Всё.
В казарму идти не хотелось, на улице было холодно. Пошли в пекарню. Не в саму пекарню, а в коридорчик. Там тепло и скамейка. Дошли, присели. На вопрос пекаря, который выглянул из пекарни, сказали, что рубили бочки. Согреемся и уйдём. Вид, вероятно, был несчастным и измученным. Пекарь выглянул ещё раз и протянул нам булку горячего белого хлеба. Безвозмездно. Сжевали её тут же. Сделали ещё один круг по городку, изображая строй, и пошли докладывать.
Сержант принял работу «на слово». К учёбе не привлекал. Разрешил отдохнуть и обогреться. А как отдыхать то?! Если на кровати лежать нельзя. Отдыхали сидя на табуретках. Про освоенную технологию рассказывать не стали. Так бывает. Если никто тебе не показывал, как делать – делаешь, как додумался. Если в процессе придумываешь что-то более эффективное и простое, то в большинстве случаев, это простое воспринимается как «Что же ты сразу так делать не стал?», «Дураку понятно, что так и надо!» и т.д. В общем никакого стимула делиться. Оставили, на потом. Вдруг ещё раз придётся или, когда нужно будет кого ни будь озадачить.
То, что может быть придётся озадачивать, я воспринимал вполне серьёзно. Вот если стану, когда ни будь, старослужащим, а тут снова бочки нужны, ну и придётся молодого озадачивать. Я не люблю озадачивать, но, если приходится, стараюсь делать это как можно подробней и тщательней. Не ограничивая простор для опытов, но делясь своим, уже наработанным и пережитым.
Из практических опытов и наблюдений. Озадачивание может быть двух типов или ставится задача про то, что нужно получить в итоге, или что и как нужно сделать. Тогда в первом случае задание может быть выполнено на усмотрение исполнителя, для заказчика важен результат. Как в случае с бочками. А во втором случае, заказчику важно, как это будет сделано, а итоговый результат (как оно будет работать) – дело случая. Кого и как озадачивать – это на усмотрение заказчика. Я почти всегда прошу сделать на усмотрение исполнителя, чтобы в итоге получилось то, что мне нужно. А вот это «нужно» уже описываю подробно.
А обучение продолжалось. Иногда я заступал дневальным. Учить морзянку во время дежурства было не нужно, но жизнь легче не становилась. У дневального свои трудности, проблемы и сложности. Например, ночью сложно пройти мимо шкафа в тамбуре. Тамбур это такая холодная комнатка перед входом в казарму. И в ней шкаф, для хранения мётл, лопат, полотёров. На одной из полок лежал здоровенный кусок хозяйственного мыла. Как же он по ночам был похож на кусок сыра.
Пару раз рука сама открывала шкаф, хватала кусок «сыра» и уже перед самым лицом запах мыла пробуждал полудремлющее сознание. А если положить мыло обратно на полку, то оно снова становилось похожим на сыр. Однажды от мыла кто-то откусил здоровый кусок. Реально откусил. Следы зубов были чётко отпечатаны. Искать долго не пришлось, Никита признался сам: «Вот он – этот герой!» и ткнул в себя пальцем. Вот такой он был, наверное, и до сих пор остался, простой и бесхитростный.
С ним частенько случались разные безобидные приколы. Безобидные для него, потому что он не обижался. Например, если сапоги начистить гуталином, а потом выставить на мороз часа на два, то можно будет их отполировать до почти зеркального блеска. Гуталин изначально предназначался для защиты обуви от влаги. Но армия на то и армия, что любая полезная вещь должна быть ещё и красивой. Иногда настолько красивой, что, оставаясь вещью, становится бесполезной. Так вот сапоги должны были быть начищены до блеска. Ага, кирзовые, гуталином, до блеска… Потом мы научились, а вначале они блестели только при использовании заморозки. И вот однажды ночью, Никита, в ущерб своему драгоценному времени отдыха, сделал всё – начистил, заморозил, отполировал. Сапоги блестели. Но утром выяснилось, что это сапоги соседа. Сосед был искренне восхищён и благодарен. Никита это пережил вполне спокойно.
Однажды нас втроем отправили на машине в Охотск, за мясом. Это выглядело не совсем, как в магазин. Нужно было со склада загрузить две или три говяжьих полутуши. Нам выдали теплые штаны – ватники, теплые куртки – пошивы, валенки. Трёхпалые рукавицы у нас уже были. Плюс, сержант вооружил нас штык ножами.
Если бы не предусмотрительно выданное тёплое обмундирование, мы бы окочурились в холодной будке. А так было почти нормально. Приехали, загрузили, закрылись, поехали обратно. Почти свобода. Ни сержанта, ни морзянки. Только очень хочется кушать. А рядом замороженное напрочь мясо. Ну и что, что замороженное, оно же мясо! Решили полакомится строганиной. Каждый из нас уже её пробовал. Ну это как сами друг другу и рассказали. Гон, конечно, поросячий, никто из нас её не ел и даже не видел. Но что в молодости не придумаешь, чтобы не выглядеть неопытным.
После многочисленных попыток отрезать кусок мяса штык ножом, пришли к коллективной мысли, что штык нож для этого совсем не приспособлен. Им можно перекусывать проволоку, забивать гвозди, что ни будь пилить, можно колоть как штыком, можно кинуть его во врага, не заботясь о том, воткнётся он или нет. Потому что если попасть в голову, то череп пробьёт однозначно, а если в каску, то сотрясение мозга гарантированно. Может быть я приукрасил, исказил или занизил замечательные свойства этого обязательного атрибута воина Советской Армии, но одно могу утверждать однозначно – отрезать им тонкий, полупрозрачный кусочек мяса от замороженной говяжьей туши – невозможно.
Ну и что? Нельзя отрезать – отпилим. Отпилили. И, продолжая трястись в машине, старательно жевали каждый свой кусок мороженной говядины. Кстати, о говядине – ходили слухи, что это совсем не говядина, а туши американских бизонов, которые были поставлены ещё по Ленд-лизу. Во рту вкус говяжьего жира, мясо не жуётся. В общем, минут через десять пришлось вынести вердикт, что мясо для строганины не подходит. Да ещё нет соли, перца, немножко водки и ножа, которым можно было бы отрезать тоненько, полупрозрачно…
Доехали до части, выгрузили этих монстров на склад и всё, опять – прощай свобода, опять в учебный взвод. Прапорщик дал нам банку свиной тушёнки. Видимо, в благодарность за работу. Так вот для чего нужен штык нож! Не строганину строгать, а тушёнку открывать. С этим мы справились легко и быстро. И банку открыли, и содержимое съели. Молодые организмы, которые считали, что они голодные, растворили эту банку в считанные секунды. И ничего с пищеварением нашим не случилось. Оно переработало это без всяких для себя и для нас последствий. В учебный взвод вернулись довольные, со слегка лоснящимися лицами. Для того, чтобы понять, что жить хорошо, этого хорошо должно быть немного и не очень часто. Тогда нам было хорошо. Лучше, чем обычно.
Однажды сержант сдал нас, всем взводом, на склад. Под чутким управлением прапорщика, заведующего продуктовыми складами, мы должны были что-то куда-то переставить/перетащить. Показал что, показал откуда, показал куда и ушёл по своим прапорским делам, закрыв склад снаружи. И остались мы всем взводом в пещере Али Бабы. Ну, то есть, не в пещере, а в продуктовом складе, что для нас было одним и тем же.
Взмывающие ввысь коробки и ящики, заполняли всю площадь и почти всю высоту огромного ангара. Сушёная картошка, сушёная морковь, сушёный лук, сушёная свёкла, сухофрукты. А вот это уже интересно. Это мы любим. Этого мы наелись вдоволь. Сушёных яблок, слив и абрикосов. Они хранились смесью для компотов в коробках, где-то на самом верху, почти под потолком. Сушёные фрукты и овощи – это обычное снабжение районов Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Настолько сухих сухофруктов я к тому времени не встречал. Они были такими сухими, что дольки яблок хрустели и рассыпались во рту, как сухари. Про чипсы мы тогда не знали. А я тогда не знал, что в советские магазины сухофрукты привозили в таком же состоянии, но продавали их немножко более влажными. Для этого, рядом с коробкой сухофруктов ставилось ведро с водой. И всё. На следующий день ведро было почти пустым, а сухофрукты – не совсем сухими. Но и мокрыми их назвать было нельзя. То же самое делали и с сахаром песком. Насколько сырым продукт доходил до покупателя, зависело от наглости и жадности продавца. Этому меня потом в торговом техникуме научили, факультативно.
Про наличие совести у продавцов, советские граждане даже не задумывались. Ну и правильно делали. Потому что не совесть ограничивала степень увлажнения, а страх быть пойманным. Два, постоянно борющихся чувства – страх и жадность. Но это я отвлёкся. Работу сделали, прапорщик выпустил из склада. Ничего в карманах со склада не унесли. Только то, что «в клювиках».
Во время усвоения, поглощённого на складе, наши организмы стали выделять метан в промышленных объёмах. Хорошо, что курить в казарме было нельзя, иначе любая искра могла бы спровоцировать взрыв. А это ЧП. Допустить этого было нельзя, также, как и долго находиться в помещении с источниками запаха. Сержант, видимо, это проходил на собственной практике, потому что сразу поставил правильный диагноз: «Сухофруктов нажрались?». Ну нажрались и что? Дело уже сделано, нужно думать, как жить дальше.
Время между перерывами было сокращено до одного часа, форточка и дверь в учебный класс были открыты постоянно. Сухофрукты переваривались дня два. В конце концов мы проперделись. В казарме опять воцарил, уже привычный и почти родной, запах портянок, гуталина, подмышек и мастики для натирания пола.
Из запомнившихся разовых повинностей – пару раз мы всем взводом долбили уголь для кочегарки. Гора угля смёрзлась до состояния монолита. Из инструментов – ломы, толстые, тупые и тяжёлые и подборные лопаты, которые тоже много повидали на своём веку, но умирать им никто не позволял. Ломы выбивали искры и иногда, угольную пыль. Если повезёт с ударом, то отваливался небольшой кусочек. Этих вот небольших кусочков и пыли нужно было нарубить две тачки. Небольшие тачки. Но если долбить уголь, который нам достался, то их объём увеличивался в разы. Ближе к ночи кочегары согласились принять у нас работу в виде двух сильно не полных тачек. В казарму вернулись замёрзшие, со сбитыми до кровавых мозолей руками.
Ещё был однажды наряд для меня и ещё кого-то – наколоть дров для прачечной. Я помню, что я это делал, делал с кем-то вдвоём, но не помню с кем. Наколоть полмашины чурбаков. Прачечная – это такое серо-чёрное, приземистое здание-барак. Там стирали наши полотенца, постельное и нательное бельё. Замачивали, кипятили на печке, стирали, отжимали и сушили. А не нательную одежду (обмундирование) мы должны были стирать сами.
Колоть предстояло топором и колуном. Тупой топор, весело болтался на коротком топорище. Вероятно, те, кто им пользовался, решили, что он был далёким потомком самозатачивающихся скифских мечей акинаков, т.е. чем чаще рубить, тем он будет острей. Но те затачивались, когда ими рубили, а этот тупел. Колун вообще был приварен к трубе. А обух и лезвие отличались тем, что обух сохранил свою квадратность, а лезвие, перестав быть лезвием, было просто круглым. Он настолько сточился, что больше был кувалдой, чем колуном.