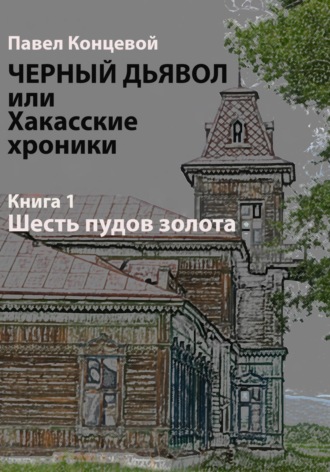
Павел Концевой
Черный дьявол, или Хакасские хроники. Книга 1. Шесть пудов золота
Часть первая. Бесконечный коридор
Глава 1. Дядя и племянник
1882 год
Костя Иваницкий отогрел ладонью кусочек разукрашенного морозом зеркального окна, и прильнул глазом к образовавшемуся просвету. А его дядюшка, Захарий Михайлович Цибульский, молча полулежал на огромном диване в углу, прикрыв веки. Окна парадной комнаты особняка Цибульского, расположенного в самом центре Томска, выходили на набережную речки Ушайки. А с высоты второго этажа Косте прекрасно были видны и торговые ряды на Базарной площади, и кирпичное здание Гостиного двора, и начинающая покрываться льдом Томь, что серебрилась чуть дальше.
Жил Захарий Михайлович в роскоши – по внутреннему убранству его внешне скромное домовладение, состоящее из трех зданий, считалось одним из лучших в Томске. Большинство других богатых купеческих домов, отличалось выбеленными известкой стенами, голыми дощатыми полами, простецкой мебелью, кое-как сварганенной местными умельцами, и окнами без штор. А в особняке Цибульского стены покрывала ткань, в зашторенных окнах блестели зеркальные стекла, полы и лестницы были устланы коврами, а в двух комнатах – парадной и кабинете, даже лежал паркет. Ну а всю богатую мебель для особняка хозяин заказал в Петербурге.
Не менее роскошной была и летняя резиденция Захария Михайловича в улусе Чебаки Ачинского округа – увенчанный башней двухэтажный дом, с танцевальным залом, где играли специально нанятые музыканты, с большой столовой, бильярдной комнатой, и зимней оранжереей, в которой к Рождеству выращивались настоящие апельсины.
– Ну и народу на Базарной – тем временем сообщил Костя, – не протолкнуться!
Сегодня, в пятничный день, площадь действительно оказалась полностью забита людьми и подводами. На ней шла бойкая торговля, а в морозном воздухе клубился дым и пар от многочисленных деревянных лавочек, сарайчиков и холщовых шатров.
– Ух ты, Захарий Михайлович, глядите-ка, вор бежит, ей богу вор, что-то стащил у приказчиков! – воскликнул Иваницкий.
Своими зоркими глазами он углядел, как из Гостиного двора на площадь выскочил юркий маленький человечек, прижимающий к груди небольшой сверток, и попытался затеряться среди прохожих. Но выбежавшая вслед за ним толпа из десятка приказчиков быстро нагнала вора, сбила несчастного с ног, и увлеченно принялась пинать его. А бродившие по рядам покупатели окружили место происшествия и, судя по их активной жестикуляции, громко комментировали происходящее, от души наслаждаясь неожиданным и бесплатным развлечением.
– Поймали голубчика, теперь ему не поздоровится. А на Томи уже вовсю на коньках катаются, – продолжил наблюдение глазастый Костя. – И не боятся же, лед ведь еще только встает!
Шла середина ноября 1882 года, снега в городе практически не было, но морозы давили прилично, и самые смелые мальчишки начинали осваивать естественный каток, образовавшийся у берегов реки. А их более трусливые (или, вернее сказать, более мудрые) товарищи стояли в безопасном месте, на высоком откосе, и махали руками смельчакам. Приказчики, тем временем, закончили пинать несчастного вора, забрали у него сверток, и вразвалочку направились обратно в Гостиный двор. Окровавленный мужичок остался лежать ничком на площади, а многочисленные посетители рынка равнодушно огибали его.
Коммерции советник Захарий Михайлович Цибульский, один из богатейших томских купцов и золотопромышленников, известный благотворитель и меценат, кавалер четырех орденов, первый Почетный гражданин и действующий городской голова Томска, очень внимательно слушал племянника, но продолжал молчать. Жил он в особняке на набережной Ушайки вдвоем с супругой, Федосьей Емельяновной. Своих детей Цибульский не имел, и любил проводить время со словоохотливым Костей, учеником Алексеевского реального училища, уже шестой год занимающим в учебные месяцы отдельную комнату в дядюшкином доме. Вот и сегодня по приглашению Захария Михайловича племянник явился к нему в кабинет, и глазел теперь с высоты второго этажа на шумную суету губернского города, комментируя все происходящее за окном.
– Семен мусор повез на помойку, – доложил тем временем Костя, увидев, как из ворот усадьбы на набережную степенно вышла лошадка, запряженная в короб. Сверху, прямо на куче мусора, восседал могучий дворник Цибульского, служивший у него не один десяток лет.
Захарий Михайлович неожиданно открыл глаза и рассмеялся. Племянник удивленно повернулся к нему, не понимая причины внезапного веселья дядюшки, а тот, фыркая в усы, пояснил:
– Тридцать лет назад Семен в том коробе меня вот так же возил, вместо мусора.
– Вас? В коробе?! – изумился Костя.
– Меня, – кивнул Захарий Михайлович, продолжая смеяться, – а ты думаешь, я всю жизнь миллионером был? Нет, Константин Иванович, приходилось и мне когда-то без копейки сидеть, да от кредиторов по углам прятаться. Я в то время большую часть года проводил на приисках, в Чебаках, а едва ложился снег, возвращался в Томск, припасы на следующий сезон закупить. Жил я в этом самом доме, который в наследство от покойного тестя в сорок пятом году получил, вместе с заложенными приисками. А к дому прилагалось долговых обязательств на четыреста тысяч, которые мне тоже пришлось взять на себя! И вот однажды кредиторы мои узнали, что я в Томске объявился, и прислали сюда поверенных. А те выставили полицейский пост у ворот, и принялись ждать, когда я выйду на улицу. Хотели мне под расписку вручить постановление суда, об аресте моего имущества. Короче говоря, обложили меня, словно медведя в берлоге! Ну а я оделся потеплее, бумаги, деньги в саквояж собрал, вышел во двор, смотрю, а там Семен в короб снег закидывает. Он тогда молодой совсем был, лет восемнадцати, но такой-же здоровенный, как и сейчас! Я ему шепчу, чтобы с улицы не услышали, – «выкидывай снег из середины»! А он замер столбом, смотрит на меня, словно на умалишенного, и в затылке чешет. Я у Семена лопату отобрал, выкопал быстренько яму в снегу посреди короба, и на дверь заднего выхода показываю. «Срывай с петель» – шепчу ему. А тот, гляжу, рассердился на дурака барина, покраснел весь, но к двери подошел, дернул со всей мочи, она и слетела, будто не закреплена была. Я в короб прыгнул, калачиком свернулся и говорю вполголоса, – «Клади на меня дверь, снегом сверху присыпь и вези за Гостиный двор, там откопаешь». Смотрю, смекнул наконец-то Семен, что от него требуется, полицейских ведь он тоже приметил у ворот. Присыпал меня дворник, отвез к Томи, а там и раскопал обратно. Ну а я вручил ему рубль за усердие, велел дверь на место приладить, подводу тут же нанял, и поскорее из Томска сбежал, обратно в Чебаки!
Иваницкий, с восхищением слушавший рассказ дядюшки, заливисто рассмеялся, а Захарий Михайлович искоса посмотрел на племянника, помолчал несколько минут, нахмурился, и неожиданно произнес:
– Знаешь, Костя, надобно мне с тобой об одном важном деле поговорить. Потому я и позвал тебя сегодня. Долго оттягивал я наш разговор, но дальше некуда. Я ведь помру скоро, – до Рождества уж точно не доживу.
Ошарашенный такими неожиданными словами Иваницкий резко оборвал смех и с изумлением уставился на дядюшку, зная, что тот никогда не бросает слов на ветер. А Захарий Михайлович спокойным голосом медленно продолжал:
– Глаза уже ничего не видят, глухота совсем одолела. Болеть я стал все чаще, а последние два месяца вообще невмоготу. Даже службу в Думе, и ту пришлось забросить. Чувствую я, жизнь из меня начала выходить…
Костя промолчал, не зная, что и ответить на эти слова. Он ведь и сам заметил, как дядюшка из крепкого шестидесятипятилетнего мужчины начал стремительно превращаться в дряхлого разбитого старика. А Захарий Михайлович поднял глаза на племянника и невесело усмехнулся.
– Ты не подумай только, Константин Иванович, я тебя позвал не для того, чтобы на жизнь свою нелегкую пожаловаться. Решил меня Бог прибрать, так значит и быть посему. Все мы когда-то там окажемся, я уже и место себе приобрел на Вознесенском кладбище. Но не дает мне покою одна тайна, которую должен я передать кому-нибудь. Нельзя ей вместе со мной в могилу уходить. А кроме тебя, рассказать мне про эту тайну некому. Деньгами то я разжился к старости, а вот детьми так и не обзавелся.
Костя кивнул. Он и сам прекрасно знал историю неудачной попытки Цибульских заиметь наследника. Своих детей у Захария Михайловича с Федосьей Емельяновной не было, и они в 1855 году усыновили младенца, оставшегося сиротой после трагической гибели отца и матери. Новые родители души не чаяли в мальчике, которого назвали Аркадием, ни в чем ему не отказывали, окружили лаской и заботой, а когда тот повзрослел, отправили учиться в Москву, в коммерческое училище. А Цибульский назначил приемыша официальным наследником своего состояния.
Но, по возвращению в Чебаки Аркадий Захарович, насквозь пропитавшийся во время учебы в первопрестольной революционными идеями, начал яростно обличать приемного отца, называя его пауком и угнетателем рабочего класса. Супруги не смогли вернуть на путь истинный заблудшего сына, и вынуждены были с ним расстаться. Захарий Михайлович лишил несостоявшегося миллионера всех наследных прав и отлучил от дома. Ну а Костины родители не рискнули отправлять сына в Москву или Петербург, поэтому тот заканчивал сейчас Томское реальное училище.
– А за неимением наследника, все мое имущество сначала к Федосье Емельяновне отойдет, – сказал Цибульский, – а после ее кончины к папаше твоему…
Иван Матвеевич Иваницкий, Костин отец, служил у Захария Михайловича, своего двоюродного брата, уже более двадцати лет. Пройдя все ступеньки приисковой организации, со временем он занял пост главноуправляющего в золотопромышленной компании Цибульского. Кроме единственного сына, он с женой, Евлампией Федоровной, воспитывал еще семерых дочерей, а жили они все в небольшом домике в Чебаках, рядом с роскошной резиденцией брата. Жалованья Иван Матвеевич получал всего лишь четыреста рублей в год, а подчиненные ему управляющие на приисках и того меньше – по триста. Однако ни он сам, ни его люди никогда не требовали с Цибульского повышения платы. Ведь Захарий Михайлович абсолютно справедливо рассудил в свое время, что при любом жаловании, хоть в триста рублей, хоть в три тысячи, его управляющие будут воровать. Поэтому дело у него было устроено следующим образом.
Всем людям, нанятым на горные работы, в соответствии с заключенным с ними контрактом, устанавливалось ежедневное задание, или урок. А после выполнения урока, любой приисковый рабочий имел право заниматься старанием, то есть мыть золото для себя, сдавая его управляющему по установленной цене, около рубля за золотник. Точно так же оценивались и найденные самородки. Во многих компаниях старание на золоте давно уже не применялось. Вместо этого, после окончания ежедневного урока, рабочий не прекращал свое занятие, а продолжал его еще несколько часов, но уже за повышенную плату, получая неплохую прибавку к основному заработку. Однако на приисках Цибульского старание на золоте до сих пор использовалось повсеместно. При весьма несовершенных способах промывки в отвалах оставалось еще достаточно золотоносного песка, называемого откидным. И администрация, разрешая работникам заново мыть отвалы, убивала сразу двух зайцев – позволяла людям дополнительно заработать, а между делом обогащалась сама. Если вес добытого в откидных песках драгоценного металла не превышал золотника в день на одного человека, то официальными сводками он не учитывался, а оседал в карманах у Ивана Матвеевича и компании. Причем, расчет с рабочими зачастую производился не деньгами, а спиртом, официальная продажа которого на приисках никогда не разрешалась. Поэтому Иваницкий и не обращался к Захарию Михайловичу с просьбами об увеличении денежного довольствия. Цибульский, разумеется, был в курсе всех махинаций брата, но закрывал на них глаза, экономя таким образом крупные суммы на жалованье управляющих.
Рачительный Иваницкий-старший не тратил понапрасну деньги, вырученные за левое золотишко, а вкладывал их в различные предприятия и прииски, со временем перейдя из крестьян в купцы второй гильдии. Но, в отличие от двоюродного брата, тратившего на благие дела почти все заработанные капиталы, он в подобных занятиях никогда не участвовал. Ведь человеку, воспитывающему семь дочерей, было совсем не до благотворительности – ему сначала следовало обеспечить достойным приданым и выдать замуж всех своих многочисленных девиц.
За время службы Иван Матвеевич проявил себя как весьма ответственный и распорядительный администратор, а дела у него шли блестяще. Поэтому бездетный Захарий Михайлович мог со спокойной душой завещать двоюродному брату, который был моложе его на 23 года, все свое имущество, зная, что оно перейдет в надежные руки.
– Ну а когда и отец твой упокоится, – заключил Цибульский, откинувшись на подушки дивана, – все наши с ним капиталы твоими станут. И вместе с будущим наследством хочу я тебе, Константин Иванович, передать одну тайну, которую храню уже три десятка лет, и закрыть наконец-то свой старый долг. А то, чувствую я, если еще хоть месяц промедлю, то, наверное, уже и не успею.
– Захарий Михайлович, – решительно ответил на эти неожиданные дядюшкины слова Костя, – ну сами посудите, какой из меня хранитель тайн? У Вас для подобных дел духовник собственный имеется. А коли не хотите о чем-то шибко греховном священнослужителю говорить, ну так отцу моему расскажите, он все стерпит.
– Боюсь, если я тайну свою открою духовнику, он на меня либо епитимью наложит, или еще чего хуже в сердцах учудит, – рассмеялся Цибульский, – святому отцу о таком знать не полагается. Ну а папаша твой, когда мой рассказ услышит, сразу меня и отправит в приют для душевнобольных. А я хочу в собственном доме и в своей кровати помереть, а не на больничной койке.
И тут в глазах у Кости загорелся огонек. Он подумал сначала, что тайна дядюшки возможно заключается в его давнишних амурных похождениях, либо в сокрытом от правосудия тяжком преступлении, ну или еще в какой-нибудь никому не интересной чепухе. И, честно говоря, у Иваницкого не было ни малейшего желания выслушивать подобные тайны, хотя ему, конечно, очень льстило высокое доверие дядюшки. Но последние слова Захария Михайловича до крайности заинтересовали племянника. Неужели и правда речь идет о каком-то действительно необычном и загадочном приключении? И при чем здесь какой-то старый долг? С кем до сих пор не сумел расплатиться его богатый дядя?
– А насчет меня Вы не боитесь, что и я Вас душевнобольным посчитаю? – осторожно спросил Костя.
– Нет, – решительно ответил Захарий Михайлович, – не боюсь! Ты человек современный и, в отличие от нас с Иваном Матвеевичем, ни в черта, ни в Бога не веришь. Да и молод ты, у тебя еще вся жизнь впереди. Придет время, и раскроешь мою тайну.
Племянник задумался над последними, не совсем понятными ему словами дядюшки, а Цибульский поднял лежащий рядом с ним на диване серебряный колокольчик и позвонил. Через мгновение на пороге парадной появился вышколенный камердинер во фраке, выправке которого мог позавидовать любой кадровый офицер, и почтительно наклонил голову.
– Тихон Иванович, накрой у меня в кабинете на двоих, – приказал Захарий Михайлович.
Камердинер исчез, бесшумно притворив за собой дверь.
– Время к двенадцати, давай-ка пообедаем. А я пока подумаю, с чего мне начать… – сказал Цибульский, – с Веселого прииска? Или с пещеры Ташкулах? С Шира-Куль? Хотя нет, Константин Иванович, начну ка я, пожалуй, с самого начала, и расскажу тебе всю историю своей жизни целиком, хоть и времени она займет немало. Но так, я думаю, будет правильнее…
Глава 2. Канцелярская крыса
Дядя, тяжело ступая, с помощью племянника перешел из парадной комнаты в небольшой, но очень уютный кабинет, окна которого выходили во внутренний двор особняка. А там их ждал уставленный яствами стол и вытянувшийся в струнку Тихон Иванович.
Цибульский всегда славился в Томске своим хлебосольством. Каждый день к двенадцати часам он распоряжался накрыть в гостиной обед. Ведь и в праздничные, и в будние дни его обязательно кто-нибудь, да посещал – местный чиновник, священник из епархии, коллега-купец или заезжий путешественник. И любой пришедший прежде всего приглашался отобедать – не накормив гостя, хозяин не желал даже и слушать никаких разговоров о делах. Но последние два месяца сильно недомогающий Захарий Михайлович обедов не устраивал и посетителей почти не принимал, а на сегодня отменил и встречу с поверенным. Он наконец-то решился рассказать племяннику свою таинственную и фантастическую историю, которую уже больше тридцати лет держал в себе. После долгих раздумий Цибульский пришел к выводу, что он не найдет лучшего кандидата для посвящения в тайну, чем его единственный племянник, а заодно и будущий наследник. А чувствуя, как жизненные силы стремительно выходят из него, Цибульский понял – откладывать беседу с Костей дальше некуда. Ведь уносить свою тайну в могилу Захарию Михайловичу было нельзя.
Накрытый в кабинете стол подразумевал под собой приватный разговор, поэтому вышколенный камердинер мгновенно исчез за дверью, предоставив обедающим распоряжаться яствами по собственному усмотрению. Проголодавшийся Костя уселся за стол, довольно потер руки, и начал накладывать себе в тарелку еду из всех супниц и судков подряд. Захарий Михайлович открыл шкафчик, плеснул в стопку настойки из пузатой бутылочки и выпил ее. А потом взял со стола тарталетку с паштетом из хариуса и направился к массивному и уютному креслу, стоящему под огромной головой изюбря с большими ветвистыми рогами. Несколько минут Цибульский сидел молча, собираясь с мыслями и невидящим взглядом уставившись куда-то в одну точку на стене, а потом начал неторопливо говорить.
– Наш род, Костя, пошел от ссыльного поляка, Филиппа Цибульского. Два столетия назад его за участие в польском восстании сослали в Сибирь и зачислили в служилые люди Красноярского острога. Военная обязанность в те времена была делом пожизненным, поэтому Филипп до конца своих дней жил в Красноярске, и в Польшу больше не вернулся. Ну а его потомки тоже стали военными. Одного из внуков Филиппа, Афанасия, отправили служить в Абаканский острог, где и обосновались наши предки. А когда острог за ненадобностью упразднили, и он стал селом, Цибульские из служилых людей перешли в крестьяне.
Захарий Михайлович перевел дух и продолжил.
– В Абаканском и появились на свет мои родители – Михаил Степанович и Варвара Гордеевна. Отец служил писарем в Балахтинском волостном правлении, верстах в пятидесяти от нашего села. Писал он очень красиво и разборчиво, и мне свое умение передал. А я закончил в Абаканском двухлетнюю приходскую школу, и в одиннадцать лет начал помогать отцу – замещал помощника писаря. Вскоре мы всем семейством перебрались в Ачинск, где Михаил Степанович поступил на службу в ратушу, а меня пристроил копиистом в окружной суд. Вот так из крестьян мы стали мещанами. Городским головой в Ачинске был тогда местный купец Иван Игнатович Родионов. И он сразу на меня внимание обратил, то есть не на меня самого, конечно, а на почерк мой красивый. Очень уж он его хвалил, ведь писал я тогда и вправду хорошо, да и копировал быстро, и без ошибок.
Жующий Костя согласно закивал – читая письма, написанные рукой его дядюшки, он всегда поражался разборчивому и каллиграфическому почерку Захария Михайловича. Сам-то Иваницкий писал, как курица лапой, щедро украшая бумагу жирными кляксами, за что не раз был бит учительской указкой.
– И вот однажды отправился Иван Игнатович в Красноярск, к Енисейскому губернатору Ивану Гавриловичу Ковалеву, с каким-то прошением от общества, и меня с собой прихватил, бумаги за ним таскать. По приезду, Родионов отправился в приемную к губернатору, ждать своей очереди, а я остался в присутствии, вместе с писарями. Но не прошло и десяти минут, смотрю, Иван Игнатович снова забегает в канцелярию, красный весь, глаза выпученные, и кричит во весь голос – «Захарка, я прошение из папки доставал и край оторвал случайно, а через четверть часа к Его Превосходительству идти! Спасай!». Секретарь быстренько освободил мне место за столом, гербовая бумага у меня с собой имелась, чернильница и перо тоже, я и скопировал документ за десять минут, да еще лучше, чем раньше было. Иван Игнатович расписался внизу, за всех, кого надобно, и побежал обратно к Ковалеву.
Костя от души рассмеялся, подивившись изворотливости городского головы, а Цибульский продолжил, улыбаясь:
– Прошло еще полчаса, слышу я снаружи шум. Отворяется дверь в присутствие, и заходит туда Его Превосходительство действительный статский советник, Енисейский губернатор Иван Гаврилович Ковалев, собственной персоной. Народ в канцелярии вскочил, в струнку вытянулся, ну и я, конечно, вместе со всеми. А из-за спины Ковалева Иван Игнатович выглядывает и на меня пальцем указывает. Он мне уже потом сказал, что похвалился Ивану Гавриловичу на приеме, какой у него паренек шустрый в услужении имеется, да как ловко он бумаги переписывает. А Ковалев не поверил ему, и решил сам в этом убедиться. Подошел ко мне губернатор, посмотрел сверху вниз с сомнением, а сам секретарю приказывает: «Подай-ка сюда письмо любое, которое переписать надобно». Протягивает мне лист и командует: «Копируй!».
– А Вы что? – вытаращив глаза спросил Костя.
– А что я, – усмехнулся Захарий Михайлович, – работа нехитрая, я ежедневно ей в суде занимался, по двенадцать часов в день. Сел снова за стол, достал перо и переписал. Иван Гаврилович взял обе бумаги, посмотрел на них внимательно, сравнил меж собой, и говорит мне: «Тебя как зовут?». Я в ответ: «Захар, сын ачинского мещанина Михаила Цибульского, Ваше Превосходительство». «А лет тебе сколько?», спрашивает он. «Пятнадцать, Ваше Превосходительство», отвечаю. «Ну, слушай меня, Захар» – говорит Ковалев, – «Забираю я тебя к себе в канцелярию. Негоже такому самородку в захолустном Ачинске штаны протирать. Давно я не видал, чтобы так быстро и красиво переписывали, да еще и без ошибок!». И через месяц я стал копиистом аж в самом губернском правлении. А к семнадцати годам дослужился и до канцеляриста!
– Ничего себе карьера! – восхитился Костя, не переставая, впрочем, жевать. Ведь ему все эти заковыристые и непонятные названия бумагомарательских должностей совершенно ничего не говорили.
Захарий Михайлович понимающе улыбнулся в усы и сказал:
– Карьера, да еще какая. В то время грамотных людей было мало, а уж умеющие писать красиво и без ошибок, вообще на вес золота ценились. Прослужил я три года в правлении, а в тридцать пятом году моего покровителя решили перевести из Енисейских губернаторов в Тобольские. И Ковалев предложил мне поехать с ним в Тобольск, а там пообещал на место секретаря устроить, и даже к четырнадцатому классу представить.
– Ого, – удивился племянник, впервые слышавший историю о юношеском периоде жизни дядюшки, – видать не только почерк у Вас был красивый, но еще и голова светлая на плечах имелась, в таком молодом возрасте! Я ведь сейчас прежнему Вам ровесник, и кто я? Простой реалист, да и пишу, как курица лапой.
– Давай, пожалься мне на судьбу свою тяжкую, – усмехнулся Цибульский, – ты Костя не простой реалист, а наследник крупного состояния. И все то, что я лишь к концу жизни сумел приобрести, у тебя уже в самом ее начале имеется. Я в купцы второй гильдии только к тридцати годам причислился, и то благодаря женитьбе, а тебе до купеческого звания осталось лишь реальное училище закончить. Ты главное, не забывай голову иметь на плечах, и не вздумай промотать заработанные твоими родителями капиталы!
Костя скромно потупился, а Захарий Михайлович пустился в дальнейшие воспоминания.
– Итак, жил я не тужил, служил теперь в Тобольской губернской канцелярии, однако с четырнадцатым классом ничего у меня не получилось. Покровитель мой, Иван Гаврилович Ковалев, в Тобольске совсем недолго пробыл и через год в отставку вышел. А других покровителей я так и не приобрел – губернаторы тамошние начали чуть ли не ежегодно меняться, каждая метла по-своему мела, а я лишь успевал себе изворачиваться, да все новым и новым хозяевам угождать! И в один прекрасный день пришел я со службы в комнату свою съёмную, сел на кровать и задумался… Первый раз в жизни посмотрел я на себя со стороны. И не увидел ничего хорошего. Мне исполнилось всего-то двадцать три года, а я превратился в какого-то старикашку, в крысу канцелярскую! Двенадцать лет с утра до вечера пишу бумаги, да с одного стола на другой их перекладываю. Глаза уже от напряжения портиться начали! Вот я и задумался над своей дальнейшей жизнью. Сейчас я получаю жалование сто сорок рублей в год, а потолком моим станет двести, ну или в лучшем случае двести пятьдесят. Произведут меня, наверное, в четырнадцатый класс за добросовестную службу, возможно к старости я даже и до девятого дослужусь, если стану правителем дел. А может и не стану… И на этом все? Так и закончится моя жизнь? Ну а больше всего прочего меня угнетало то, что я охоту совсем забросил! Еще в Абаканском от отца мне его страсть передалась, да на всю жизнь! Вот и сейчас, Костя, на меня порой такая тоска накатывает! Я ведь никогда уже больше ружья в руки не возьму…
Иваницкий сочувственно закивал. И его дядюшка, и отец, оба были страстными охотниками, и ничто другое не интересовало их в жизни так сильно, как охота. Захарий Михайлович до последнего времени, пока имелись силы, ездил за сто верст от Чебаков в глухую тайгу на Терсинку, выслеживать изюбрей. И терпеливо сидел целыми днями на продуваемых ветром гольцах, поджидая зверя. Причем наверх его затаскивали охотники-инородцы на нартах – самостоятельно ходить на лыжах по холмам он уже не мог. Цибульский не жалел денег на оружие и снаряжение, и постоянно выписывал себе из-за границы самые новейшие образцы ружей и винтовок, не обращая внимания на их стоимость. Да и сам Костя еще с четырнадцати лет пристрастился к охоте, и именно под головой первого убитого им марала и сидел сейчас в уютном кресле Захарий Михайлович. Да что там Костя, даже его многочисленные сестры, и те всегда с нетерпением ждали отца и брата с охоты. А по их возвращению, девицы наперебой выспрашивали у охотников все подробности очередного увлекательного приключения, и искренне радовались, рассматривая привезенные трофеи.
А золотопромышленник вновь заговорил.
– И вот тогда я и решил окончательно – надобно мне поскорее бросать канцелярскую службу и искать себе более интересное, да и зачем греха таить, более прибыльное занятие. А в то время им могла стать только золотодобыча. Ведь в конце двадцатых годов обнаружилось, что Сибирь наша матушка на золоте стоит. Причем, выяснили это на свой страх и риск простые купцы. Никаких горных институтов они не заканчивали, но обладали большим упорством, настойчивостью, значительными капиталами и, конечно, везением. И покатилась тогда по Сибири настоящая золотая лихорадка! Поэтому в сороковом году, когда я задумался об отставке, других вариантов, кроме как податься на службу к золотопромышленникам, я даже и не рассматривал. И кстати, Константин Иванович, именно в нашей Томской губернии и началась та самая золотая лихорадка, хоть она и улетела потом еще дальше, в Енисейскую тайгу и за Байкал. Но эта история давняя, и для тебя, наверное, она неинтересна. Я ее для краткости пропущу.
– Не надо ничего пропускать! – горячо запротестовал Костя. – Я очень хочу ее услышать! Да и Вы, Захарий Михайлович, обещали мне с самого начала и до конца все рассказать!
– Таким макаром мы с тобой и за неделю не управимся… – пробурчал Цибульский, – ну да ладно, расскажу, коли взялся! Тем более, что история эта весьма поучительна. Слушай внимательно, да запоминай! Почти все земли у нас в Сибири принадлежат государству, то есть Казне. А некоторые территории находится в собственности Государя Императора, имуществом которого управляет Кабинет Его Величества. Для частных лиц доступ на кабинетские земли был до недавнего времени запрещен. А Казна свои территории сдавала в аренду, однако позволяла разрабатывать на них только руды простых металлов – железо, медь, свинец, и олово. А монополию на добычу золота и серебра она оставляла за собой. И если вдруг частные арендаторы, выплавляющие железо либо медь, обнаруживали руды драгоценных металлов, то Казна тут же изымала их предприятия в свою собственность. А порой в дело вмешивался и Кабинет, забиравший особо лакомые земли себе. В результате такой недальновидной политики, золота у нас в стране добывалось очень мало, и до поры до времени это никого не беспокоило. Но к началу века российские финансы оказались в полном расстройстве. Вместо серебряных рублей принялись даже печатать ассигнации, за которые больше тридцати копеек никто не давал. Ожидалась крупная и затратная война с Наполеоном, и в Петербурге понимали, что без резкого увеличения добычи золота, страну ждет крах! И поэтому в мае 1812 года, перед самым началом Отечественной войны, вышел сенатский указ, который официально позволил владельцам частных заводов добывать рудное серебро и золото на арендованных казенных землях. А с девятнадцатого года им разрешили еще и мыть россыпи. Но ты сам понимаешь Костя, что к нам, простым купцам, подобные указы не имели абсолютно никакого отношения, ведь по сути дела, частным лицам путь в золотодобычу по-прежнему был заказан. По закону, разрешение на поиск золота Комитет Министров мог выдать любому российскому подданному, а не только владельцам заводов. Однако, в Петербурге бытовало мнение, будто частные лица, заполучившие отводы, не смогут их правильно разрабатывать, а то и вовсе начнут утаивать от Казны драгоценный металл. Поэтому дозволения на золотодобычу решили никому пока не выдавать, в ожидании лучших времен.
– Вот так у нас все и делается, – авторитетно заявил Иваницкий, – вроде бы и не запрещено, но и не разрешено!
– Ну а как ты хотел, Константин Иванович, – весело сказал Захарий Михайлович, – гладко бывает лишь на бумаге! Ну да ладно, слушай дальше. В 1824 году, город Екатеринбург с высочайшим визитом посетил Его Императорское Величество Александр I. Для переодевания он остановился в доме богатого местного купца Якима Меркурьевича Рязанова. А Рязанов давно уже пытался добиться разрешения на поиски золота, но все никак не мог получить согласие от Комитета Министров. Поэтому во время торжественной встречи Государя, Яким Меркурьевич лично обратился к нему со своей просьбой. И в беседе с Александром I, он не только сумел выпросить дозволение на поиск и добычу золота, но еще и получил на это дело казенные деньги, двадцать пять тысяч рублей! И уже в следующем году Рязанов снарядил поисковые партии в Тобольскую губернию, хотя официальное разрешение Комитет Министров выдал ему лишь спустя еще год, в ноябре двадцать шестого. Но увы – потратил Яким Меркурьевич все казенные деньги, но на тобольских землях ничего не нашел…



