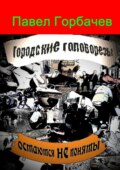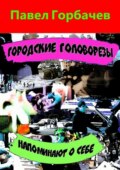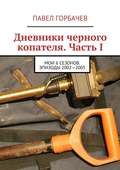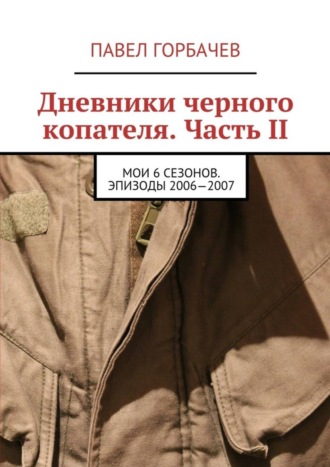
Павел Горбачев
Дневники черного копателя. Часть II. Мои 6 сезонов. Эпизоды 2006—2007
Примерно через три минуты мы услышали Сашин радостный крик. Гена поднялся и стал помогать ему.
– Каска! – Сашиной радости не было предела, – он на секунду остановился, чтобы оглядеть нас радостными глазами, и принялся дальше копать. Но тут вскоре выяснилось, что каска-то советская, хоть и в очень хорошем сохране. Радость копателя сменилась разочарованием, которое Саша попытался скрыть напускным равнодушием.
– Да мне все равно, – бубнил он, – совковая каска – тоже хорошая находка. Да в таком сохране пойди еще найди, скоро вообще их не будет. Он наскоро отчистил ее от рыхлой земли и убрал в вещмешок.
А Стас в это время доставал из ямы рядом с блиндажом длинную ленту от немецкого пулемета. К сожалению, она очень сильно проржавела, и от металла во многих местах осталась только одна форма. Он продолжил копать в том месте, и одну за другой доставал куски таких же лент разной протяженности.
Я ходил взад-вперед по дну оврага, надеясь если не повторить успех, то хотя бы просто постараться сунуть катушку во все уголки, под каждый куст и примять каждый островок стеблей сухой крапивы. На голове у меня была одна каска, вторая каска была в левой руке, а лопата была под мышкой. Я уже жалел, что не взял с собой утром рюкзак, но оставлять место и идти за рюкзаком в деревню было бессмысленно, равно как и жаловаться на судьбу. Тут я увидел проявление закона подлости в его самом гуманном виде. Не исключено, что если бы я взял у Стаса видеокамеру и снимал бы ей, то мы с Сашей могли бы и пройти мимо этих пятачков в оврагах. Да и хорошие вещи очень не любят находиться, когда у копателя есть с собой фотоаппарат или видеокамера… Не знаю, есть ли в этом просто совпадение или же присутствует именно мистика, но в те разы, когда мы брали с собой в лес видеокамеру, нам никаких ударных находок сделать не удавалось. Зато наоборот – пожалуйста!
Когда мой энтузиазм в этом втором овраге иссяк, то я решил пройтись по дну первого оврага с начала и до конца. Для этого нужно было подняться вверх и выйти на поле. Саша и Стас, увидев, что я завершил свои поиски внизу, тоже стали закругляться. Мы все потянулись к первому оврагу. В том месте, где поле начинает постепенно «съезжать» вниз, я увидел среди сухих стеблей крапивы какую-то небольшую ржавую раму, наполовину торчавшую из земли. Поддев ее лопатой, я полностью достал ее и стал осматривать. Рама была причудливой изогнутой формы, но качество ее изготовления было высоким. К ней были приварены в разных местах разные проушины, крючки. По всему было видно, что у нее есть какое-то особенное предназначение. Я впервые видел такой предмет, Саша и Стас тоже не могли пояснить, к чему она относится. До грейдерной дороги от начала оврага было буквально десять метров, и примерно на таком же расстоянии уже лежал современный мусор, куски деталей от комбайна, битый кирпич и прочее непотребство. Пока я размышлял, Саша и Стас уже опередили меня и стали исследовать овраг. Я отложил эту раму в сторону и начал ходить по этому месту с металлоискателем. Поблизости в земле было довольно много сигналов, и я начал копать все подряд. Оказывается, рядом лежали граната РГД-33 в очень плохом сохране, разные гильзы, осколки снарядов, остатки консервных банок. Я окликнул Сашу – у него был примерно такой же состав находок. Глядя на меня, тащившего на себе две немецких каски, Стас и Саша уже держали перед глазами образы касок, и находки рангом ниже они уже никак не воспринимали. Но каски, к сожалению, в этих местах больше так легко не находились.
Голод, который я раньше не замечал, к этому времени заявил о себе во всю силу, и я сел на склоне оврага, не в силах продолжать хождения. Мне оставалось только наблюдать за товарищами, которые тоже начинали ходить медленнее из-за голода.
Мы исследовали эти пятачки еще примерно минут сорок, после чего Саша вышел ко мне и заявил, что тоже больше не в состоянии копать. Он сел рядом со мной, закурил. Мы попили воды и стали вдвоем смотреть на Стаса и Гену. Спустя еще какое-то время Гена пришел к нам. Он был явно навеселе, пытался шутить и балагурить. Стас все это время одиноко ходил между деревьев, хаотично двигаясь с одного склона оврага на другой, петляя по дну его.
Наконец и он все бросил и поднялся к нам. Было уже далеко за полдень, а мы сегодня даже не завтракали.
Общим решением было решено пойти домой и пообедать, а затем уже по настроению смотреть, куда еще можно пойти на раскопки. Я не стал забирать эту раму, поскольку так и не понял, к чему она относится.
Когда мы подходили к дому, я попросил Стаса обогнать нас и взять в доме видеокамеру, чтобы запечатлеть наше возвращение со всеми находками. Он бодро поскакал туда, и когда мы медленно втроем подходили к крыльцу, он уже встречал нас с включенной видеокамерой, комментируя то, что наблюдал в видоискатель.
Подойдя поближе, мы все начали выкладывать наши трофеи на зеленый травяной ковер перед домом. Сначала я снял с головы немецкую каску и бросил ее к ногам Стаса, затем туда же отправилась и вторая каска. Саша побросал рядом свои находки, а я пошел в дом и вытащил вообще все, что накопал в этот приезд. Стас все время снимал, а я стал раскладывать находки на траве. Когда все было сделано, то мы увидели целую гору самых разных военных вещей.
– Ничего себе, – ухмылялся Саша, – приносили вроде немного, а тут все вместе получается как настоящий музей!
И этот еще рядом не были выставлены его находки, которых бы лучше было и не выставлять на улицу, чтобы не шокировать возможных зрителей. Закончив съемку видео, Стас пошел в дом. Я собрал все и последовал за ним.
После позднего обеда настроя на дальние путешествия не было, и мы решили последовать идее исследования ближайших окрестностей деревни Шоптово. Саша повел всех нас к ставшему уже легендарным месту, где он откопал немецкую ракетницу в кобуре. Мы там ходили в очень расслабленном режиме, не претендуя на находки и не испытывая алчности, привычной для первого дня раскопок. Просто ходили по лесу, привычными движениями размахивали металлоискателями и копали сигналы, которые считали стоящими. Мы с Сашей откопали по корпусу гранат Ф-1 каждый. Стас выкопал мятый немецкий котелок, а Гена так и собирал трехлинеечные патроны. Каждый был занят своим делом, мыслями же мы были уже в своих находках. Я ходил по лесу, а сам представлял, как буду чистить каски от ржавого налета, как буду их реставрировать и красить; как буду мыть переноски для штурмовых барабанов; как буду выжигать сегодня вечером на костре тротил из корпуса «лимонки», чтобы ко мне со стороны властей не было претензий по ст. 222 УК РФ.
Как только начало темнеть, мы начали сворачивать свою деятельность и потихоньку двигаться в сторону дома. Морально мы были уже почти опустошены: заряд активности был истрачен на поиск и откапывание эха войны. Теперь нужно было снова вернуться домой, к обычным делам. Всему свое время, и мы потратили несколько дней своей жизни в эти майские праздники не зря.
Вот мы уже дома, привычно ужинаем и обсуждаем все подробности дня. О, это отдельное удовольствие – снова и снова переживать момент совершения находки! Наверное, по большей части ради именно самого процесса открытия мы и ходим в лес?..
На следующее утро мы проснулись как ни в чем не бывало и стали сразу же готовиться к отъезду. После завтрака мы начали собирать вещи и складывать все свое и вновь приобретенное добро в багажник автомобиля. Мой рюкзак в конце поездки был заметно тяжелее, нежели по приезду в Шоптово. Я едва смог уложить все находки в него так, чтобы для одежды и снаряжения нашлось место.
Занимаясь загрузкой вещей, мы увидели что по деревне едет УАЗик.
– Наши «деды» что-ли? – Саша внимательно присматривался к автомобилю, – точно, приехали!
Когда машина поравнялась с домом, Саша махнул водителю. Внутри сидело несколько мужчин предпенсионного возраста. Они были все очень грузной комплекции, и им пришлось нелегко, когда они выходили из УАЗика. Они пошли в нашу сторону, и Саша тут совсем расплылся в улыбке.
Мы поздоровались, Саша представил этим мужчинам нас со Стасом как своих напарников, но эти мужчины вообще не посмотрели в нашу сторону, как мне показалось. Они стали расспрашивать Сашу о находках, и тот начал на все лады рассказывать о том, что мы тут нашли очень много военного хлама. Стоило ему только мельком упомянуть о ящике гранат, как «деды» – а я понял, что это были именно они, – попросили Сашу показать их. Тот полез в багажник и достал пакет с гранатами. Все «деды» сгрудились вокруг них, они были очень возбуждены, причмокивали языками. По их поведению было видно, что их аж зависть берет. Саша, будучи очень хорошим прирожденным психологом, предложил самому главному толстому «деду» одну гранату забрать себе в качестве «подгона». Тот сразу же начал перебирать их в поисках самой лучшей, но Саша вмешался в процесс и как-то незаметно предложил тому одну из тех, что были очень хороши, не позволив «деду» выбрать гранату самому. Видимо, у них с Сашей были давно сложившиеся собственные отношения и система взаиморасчетов. Толстый стал активно расспрашивать Сашу о том, где мы это все нашли. И Саша не спеша, выдерживая паузы, которые явно томили толстого и тем самым доставляли удовольствие Саше, рассказал о тропинке в районе Гривы за Лучесой. За всем этим было очень забавно наблюдать.
Унеся гранату к себе в УАЗик, «дед» вернулся к Саше с какой-то трубой, в которой мы опознали сильно ржавый ствол от пулемета Максим, и вручил его Саше. Они продолжили общаться на какие-то свои темы, а мы со Стасом вернулись к процессу собирания вещей. «Деды» вскоре вернулись в УАЗик и поехали по Шоптово в сторону реки. Видимо, они решили отправиться в те местам, где мы нашли ящик с гранатами.
Закончив сборы, мы со Стасом и Сашей попрощались с Геной, традиционно вручив ему одну или две бутылки водки. Гена проводил нас взглядом, когда машина выезжала со двора на дорогу.
Мы проезжали мимо того места, где пару дней назад устраивали салют – от ямы не было и следа. Ехать по грейдерной дороге было совершенно иным делом, я вспоминал, как мы с Сашей ехали прошлой осенью по разбитой и раскисшей дороге, как штурмовали лужи и боялись засесть в грязи…
– Вот сделали дорогу, – вслух размышлял Саша, – и теперь все сюда ломанутся. Скоро в Шоптово будет аншлаг, копатели будут драться за место ночлега в доме. Эх, в следующем году в Шоптово вообще делать будет нечего, – теперь он обращался к нам со Стасом, – ваши московские опереточные копатели на квадроциклах приедут, все места с Геной выбьют и весь хлам из леса вынесут. Куда теперь ездить?
Белоруссия
Когда я вернулся в Москву, то после того, как хорошо выспался, сразу же стал искать на копательских форумах информацию о той стальной раме, которую нашел в последний день. Все же она мне смутно напоминала какую-то военную штуку, но вот к чему она относилась – этого я вспомнить не мог. Довольно быстро выяснилось, что эта рама – устройство для переноски на спине немецкого 50-мм миномета. Судя по количеству находок таких рам, они не были редкостью. Каждая дивизия вермахта должна была иметь в штатном вооружении 84 таких миномета. Воевавшая в районе Шоптово 86-я пехотная дивизия не была исключением, и я, судя по всему, нашел недалеко от деревни именно такую раму.
Узнав об этом, я стал себя упрекать за то, что не удосужился забрать ее. До деревни ведь идти всего пять минут неспешным шагом, а я не сообразил хотя бы сходить вечером перед сном туда и принести раму в дом. Уж вместе мы бы решили, что с ней делать и как ее везти. Да я бы и сам ее смог унести в руках, даже закинув на спину заметно потяжелевший от находок рюкзак.
Но было поздно горевать, собирать экспедицию в Шоптово только затем, чтобы забрать оттуда эту недооцененную находку, было нецелесообразно. Тогда я сосредоточился на том, что принялся чистить найденные каски. Особенно меня интересовала простреленная немецкая каска. Стоило ее только отмыть в воде, как по всей ее поверхности проступила краска, а сбоку я увидел декаль с белым вермахтовским орлом и свастикой на черном фоне. Каска была прострелена пулями разных калибров, примерно как найденная под Тагощей советская каска. Это стандартный пример последствий послевоенного подросткового хулиганства, или же русские солдаты использовали трофейные немецкие шлемы для учебных стрельб? Как бы то ни было, но именно эти отверстия спасли каску от гибели. Если бы она была целая, то скапливавшаяся в ней влага из грунта, несомненно, сточила бы металл до основания. А так – вода как сквозь сито проходила сквозь пулевые отверстия, и каска осталась в том виде, в каком ее и сбросили в эту ячейку в овраге.
Еще примерно неделю я не спеша чистил остальные находки, применяя обычную воду, мыло, соду, чистящие средства и щавелевую кислоту. Постепенно я закончил чистить шоптовские находки, и они заняли место на шкафу в моей комнате. Было приятно заходить в нее и при взгляде на трофеи вспоминать былые походы.
Наступил июнь, судя по нарядившимся в яркий зеленый наряд городским деревьям за окном, на природе «зеленка» полностью вступила в свои права. Когда мы в очередной раз встретились втроем – я, Серега и Стас – то очень долго уверяли Серегу, что наше старое доброе Некрасово по сравнению с Тверской областью бледно меркнет. После Шоптово ехать за копательским счастьем в Некрасово не имело смысла. Я показал ему свои находки, Стас продемонстрировал свои, и Серега с большим сожалением был вынужден это признать.
В один прекрасный день мне позвонил мой друг Ламкин с необычной просьбой. Он хотел съездить к своим родственникам в Белоруссию на автомобиле. Но он, как не очень опытный водитель, боялся ехать туда в одиночку, а взять с собой ему было решительно некого. Зная о моем фрилансерском образе жизни, он сообразил обратиться ко мне. Недолго думая, я согласился, но предупредил его, что за это мне нужна будет от него ответная услуга. Поскольку вся территория Белоруссии была оккупирована во время войны, то я даже не стал уточнять, где именно живут его родственники. Я сказал, что в поездку возьму с собой металлоискатель и потрачу некоторое время нашего путешествия на то, чтобы покопать там. Ламкин согласился, и мы стали собираться в дорогу. Буквально на следующий день я поехал в книжный магазин «Молодая гвардия» на Полянке и купил там карту Белоруссии. Увы, километровок в продаже не было, поэтому пришлось купить карту автомобильных дорог. Но и этого мне показалось достаточно, потому что главной целью было просто не потеряться там на местности как по пути к родственникам Ламкина, так и во время моих небольших походов уже на месте. Только перед самым выездом я спросил, куда же мы все-таки едем. Оказалось, что мы едем в деревню на территории Чериковского района Могилевской области.
Мне не составило большого труда отыскать эту деревню на этой карте, и тогда я стал изучать историю боев за эти места. То, что я узнал о будущей цели нашего автопутешествия, принесло мне большие надежды и воодушевление.
Недалеко от деревни и станции Веремейки находится река Проня перед райцентром Чаусы. Еще не приступая к чтению документов о войне в этих местах, я понял, что именно эта речка Проня как серьезное естественное препятствие при любых раскладах была задействована в боях.
Основные события на реке Проне, благодаря которым она вошла в историю Великой Отечественной, связаны с операцией «Багратион». Задача перед советскими войсками в 1944 году ставилась гигантская: освободить всю Белорусскую ССР.
Бои под Чаусами начались 23 июня 1944 года, то есть почти ровно за 62 года до того, как я собирался там покопать. В тех местах в наступление пошли 49-я и 10-я армии армией, русским войскам предстояло форсировать несколько рек, в первую очередь именно Проню, и прорвать сильно укрепленную немецкую оборону. Об это пишут во многих источниках по операции «Багратион». Но вообще-то бои в этом районе начались еще в октябре 1943 года, спустя примерно месяц после того, как был Освобожден Смоленск. Эти полгода позиционных боев на рубеже реки Прони характеризуются многочисленными попытками советских подразделений прорвать очень сильно укрепленную полосу немецкой обороны и соответствующими большими потерями. Тогда еще не было замысла единым ударов сбить немцев, и частные попытки создать плацдарм на противоположном берегу Прони были неуспешны.
Уже через два дня после начала операции «Багратион», а именно 25 июня 1944 года, город Чаусы был освобожден. Значит, немцев в итоге выбили с их мощных позиций очень быстро, и они не успели уйти оттуда сами. Это давало шанс, что очень много трофеев было брошено именно там, на местах боев. Держа все это в голове, я и ехал в Белоруссию, полагаясь на удачу и на то, что мне удастся за небольшое отведенное на копание время разобраться с особенностями местности и найти хороший нетронутый пятачок с хламом войны.
Мы выехали рано утром из Москвы, до Вязьмы мчались по так хорошо знакомому мне Минскому шоссе. В Вязьме свернули налево и доехали до Рославля. Там свернули на развязке направо и далее по прямой дороге ехали дальше, пересекли границу с Белоруссией и пообедали на обочине запасенными из дома бутербродами, вареными яйцами и картошкой. От этого места мы проехали примерно 35 км до города Кричева, потом еще примерно столько же до Черикова. Еще час плутаний по местным дорогам, и мы въехали в пункт назначения еще засветло. Общий километраж за день составил почти 600 километров. Перед самой деревней я обратил внимание на знак радиационной опасности, который стоял прямо на опушке. «Интересные места», – подумал я и стал смотреть, насколько далеко этот район от Чернобыля. Судя по карте автодорог, расстояние от этой деревни до города Припять на Украине и расположенной близ него ЧАЭС по прямой было всего-то 270 километров.
Родственники Ламкина в деревне встретили нас хорошо, мне отвели отдельную кровать в комнате детей, а самих обитателей взрослые взяли ночевать к себе в спальню.
Впереди у нас было две недели, и первые несколько дней мы решили потратить на посещение местных достопримечательностей, как их понимали сами местные. Мы за один день побывали в Могилеве, посетили рынок автозапчастей, поездили по центру города. В конце дня я все-таки начал спрашивать у хозяев про войну и про места боев, но ничего внятного от них добиться не удалось. Они просто были не в курсе дела. Насчет знаков «Радиация» на опушке они пояснили, что в том лесу собирать грибы и ягоды не рекомендуется, поэтому они ходят через дорогу в соседний лес. Там знака нет, и вроде как нет и радиации.
Сама белорусская деревня была абсолютно не похожа на то, что называют деревней в России: двухэтажные панельные дома, на окнах многих квартир были установлены спутниковые антенны, всюду был порядок и чистота. Ламкин решил выпить с родственниками за приезд и отдохнуть с дороги, все-таки он все это время был за рулем.
Я же взял металлоискатель и пошел на окраину деревни, чтобы самому увидеть, что же собой представляет белорусский лес. Оказалось, что сразу за дорогой в еловом лесу есть блиндажи. Рядом с ними были установлены самодельные брусья, турники и скамейки для упражнений на пресс. Видимо, местные спортсмены обустроили это место для себя некоторое время назад. Но было заметно, что этими спортивными снарядами давно уже никто активно не пользовался. Я отошел в лес метров на двадцать, включил прибор и начал ходить по площадям. Нужно было разведать место. Сразу же мне стали попадаться гильзы от Маузера, гильзы от трехлинейки, обоймы для патронов и осколки от мин. С одной стороны, это было неудивительно, ведь война в Белоруссии была практически повсеместно, что по 1941 году, что по 1943—1944 годам. Но чтобы вот так с первого раза наткнуться на реальные боевые блиндажи…
Я продолжил ходить по лесу, и везде была одна и та же картина: гильзы, осколки, старые консервные банки. Можно было ожидать найти остатки советских касок, более массивные артиллерийские гильзы, но ничего крупнее винтовочной гильзы я не нашел. В лесу постоянно я натыкался на протоптанные тропинки, люди ходили здесь регулярно, но современного мусора не было! Это было разительным контрастом с российскими лесами, например, с Подмосковьем, где в любом лесу поблизости от жилья обязательно будет локальная свалка строительных отходов или бытового мусора. Тут же не было и намека на подобное. Обойдя лес по периметру и уткнувшись то в дорогу, то в поляну, то в опушку, я вернулся на место захода. Разведка продемонстрировала присутствие военного железа, и теперь нужно было отправиться непосредственно на места самых жестоких боев. Уж там-то точно должны быть более интересные вещи!
Когда я вернулся домой, то местные поведали мне историю о том, как в послевоенные годы жители постоянно ходили в ближайшие леса и собирали металлолом. Теперь стало понятно, почему крупного железа в лесу нет: это все давно подчистили и вывезли.
На следующий день Ламкин загорелся идеей покататься по окрестностям на машине и посмотреть на древнюю архитектуру. Родственники тут же порекомендовали нам съездить в город Мстисласль и заглянуть в расположенный там монастырь. По их меркам, ехать до Мстиславля было недалеко, всего 50 километров. От Мстиславля до российской границы было гораздо ближе, примерно 11 километров. Но Ламкину, вырвавшемуся на свободу и потерявшему голову от низких цен в Беларуси, такие расстояния были нипочем. Мы долго собирались, взяли с собой хорошего знакомого его родственников и выехали в сторону Мстиславля только после обеда.
Ламкин был в приподнятом настроении, местный проводник сидел впереди на пассажирском сидении и показывал дорогу, мы с ветерком катились по пустым местным дорогам. Всего через полчаса мы въехали в Мстиславль, сбавили скорость и стали рассматривать город. Он был очень маленький, аккуратный, низкоэтажный. Буквально на каждом перекрестке можно было увидеть какое-либо старинное здание: колокольню храма, здание торговых рядов, усадьбы. Мы пересекли город несколько раз из конца в конец разными путями, а затем наш местный проводник предложил выехать за город, чтобы посмотреть развалины древнего монастыря, расположенного за чертой города. Поскольку наш проводник не знал точного маршрута, мы подъехали спросить дорогу у местных мужиков, которые сидели за столом и пили пиво. Нам любезно показали дорогу и объяснили, как добраться до этих достопримечательностей. Мы заехали туда, покрутились возле старинных построек, которые сложно было назвать развалинами, и которые явно находились в процессе ремонта и реконструкции.
После этого было решено ехать домой на ужин, ведь нас уже заждались к столу. Ламкин сообщил, что он уже понял все особенности движения по местным дорогам, а наш проводник был навеселе от бутылки пива и все время что-то рассказывал.
Заезжая обратно в город, Ламкин не обратил внимания на дорожный знак «Уступите дорогу», и мы на полном ходу выехали на перекресток. К нашему несчастью, справа по дороге на перекресток выехала другая машина – это был серебристо-серый «Опель». Я сидел сзади за водителем и видел все происходящее, как в кино.
Мы выехали на перекресток, и только тогда Ламкин увидел приближавшийся к нам справа «Опель». Скорость обеих машин была примерно 60 км/ч, мы стремительно сближались прямо посередине перекрестка. Наш автомобиль неумолимо ехал прямо наперерез «Опелю», и в следующее мгновение мы врезались в водительскую дверь другой машины. Капот нашего автомобиля поднялся и сложился, от инерции удара я стукнулся головой о подголовник водительского сидения и отлетел назад. «Опель» отскочил в сторону и проехал по инерции еще немного вперед, остановился на обочине.
Наша машина тоже остановилась. На несколько секунд воцарилось молчание, после чего Ламкин спросил: «Все живы?» Мы с пассажиром откликнулись, ошупывая себя, – все были целы, не считая легкого шока. Потом вышли из машины, а на перекрестке уже стали собираться местные жители, услышавшие удар.
Водитель «Опеля» не был пристегнут, он ударился головой сначала о стойку салона, а затем его отбросило вправо-вперед в сторону лобового стекла. Он головой ударился о правую нижнюю его часть, и на стекле осталась выпуклая вмятина от его головы. Водитель с трудом выбрался из салона, Ламкин нагнулся к нему и спросил, нужна ли ему помощь. Зевак стало собираться все больше и больше. Не теряя времени, я взял у Ламкина фотоаппарат и стал фотографировать место происшествия, положение машин, водителя «Опеля». У нашего автомобиля была разбита передняя часть: бампер, капот, фары. На асфальт вытекал тосол.
Через минут десять появились знакомые и родственники водителя «Опеля», они пробовали отозвать Ламкина в сторону для разговора, но он им громко и внятно сказал, что разговаривать будет только в присутствии инспектора местной ГАИ. Как я понял из перешептываний местных зевак, водитель «Опеля» ранее был лишен прав вождения за нарушение ПДД, он и сейчас явно был в состоянии легкого алкогольного опьянения. Но самая большая неприятность для нас была в том, что это мы нарушили правила, выехав первыми на этот перекресток. Перед ним с нашей стороны был установлен знак «Уступите дорогу», который, правда, был скрыт листвой и вообще не виден. Местные жители знали правила и без него, поэтому ехавшие по этой дороге всегда тормозили на перекрестке. Водитель «Опеля» ехал по своему родному крошечному Мстиславлю и даже не думал ждать опасности с дороги слева, ведь он ехал по главной дороге и не тормозил на перекрестке…
Судьба была в том, что этот водитель был одним из тех мужчин, которые еще час назад показывали нам дорогу к развалинам монастыря. Теперь мы с ним еще раз встретились на дороге, но уже в другом качестве.
К счастью, наш оппонент не получил сильных повреждений, но удар головой о лобовое стекло все-таки был для него чувствительным. Как говорили зеваки, если бы он был трезвым, то пострадал бы сильнее.
Когда приехал инспектор ГАИ, то для него ситуация уже была ясна и теперь нам предстояло оформить протокол ДТП. Вина Ламкина была очевидна всем. Со страховкой у нас все было в порядке, и самое страшное, что нам могло грозить, – это штраф водителю за то, что не выполнил требование знака «Уступите дорогу», что привело к аварии.
Наша машина не могла ехать самостоятельно, и это было самое печальное для нас. Уже сгущались сумерки, а мы были в пятидесяти километрах от дома. Дядя Ламкина к этому моменту уже успел выпить за ужином водочки и не мог приехать в Мстиславль нам на выручку.
Инспектор ГАИ после оформления всех бумаг дотащил нас на буксире до здания местного отдела милиции, и мы остались там ночевать в машине втроем. Настроение на всю поездку было потеряно. Ламкин уже считал примерные финансовые потери от этой аварии. Наш проводник был хорошо осведомлен в ценах местного рынка автозапчастей и обнадежил Ламкина, пообещав помочь найти самые дешевые запчасти для его автомобиля на разборках, а также порекомендовать знакомых мастеров в местном автосервисе.
Мы провели всю ночь в машине, сон никак не давался: мы раз за разом прокручивали в памяти всю ситуацию, каждый рассказывал свое видение. Ламкин корил себя за беспечность и за то, что не сбавил скорость на перекрестке, что не рассмотрел знак и что вообще поехал в этот злосчастный Мстиславль. Как говорится, чтобы я всегда был умным, как моя жена после.
Примерно часов в восемь утра за нами приехали деревни на машине и забрали в деревню. А наша поврежденная машина так и осталась арестованной на стоянке ГАИ до разбора ситуации. Последующие пять дней мы занимались разрешением этой проблемы. Ламкин со своим дядей ездил в Мстиславль на разбор происшествия, где обоим водителям вменили обоюдную вину. Ламкин получил штраф за то, что не уступил дорогу, а второй водитель был наказан за езду без прав. Правда, он еще и оказался в больнице с подозрением на ушиб головного мозга, и его машина, по оценке инспектора ГАИ, восстановлению не подлежала. Еще пару дней мы потратили на поездки в Минск на авторынок и поиск необходимых деталей на разборках. Дядя Ламкина нашел знакомых слесарей и договорился о ремонте машины. В итоге пришлось еще раз ехать в Мстиславль и забирать автомобиль на буксире. Ламкин по прошествии некоторого времени, подсчитав свои потери, сообщил мне, что если бы такая авария случилась в России, то стоимость ремонта в Москве и области была бы в два раза выше. А так он потерял примерно 700 долларов.
Кстати, когда мы были в Мстиславле, то дядя Ламкина заехал в гаражи к одному своему знакомому товарищу. Была хорошая погода, и многие владельцы гаражей были на месте, кто-то копался в моторе, а кто-то наводил порядок в гараже. Пока они там что-то обсуждали, я обратил внимание на очень знакомую канистру у одного из автовладельцев. Она стояла возле двери гаража, так что я мог хорошо ее рассмотреть из салона нашей машины. Канистра была очень старая, но целая, и ей явно пользовались по назначению. На ее боку были выдавлены надписи на немецком: «Kraftstoff Feuergefaerlich 1943 Wehrmacht». Мне было приятно видеть следы войны даже в таких утилитарных вещах. Ничего, успокаивал я себя, вот решим все проблемы с машиной, и я оторвусь в белорусских лесах по полной программе!
Буквально за несколько дней до того, как нам уже нужно было уезжать из Белоруссии, автомастера огорчили Ламкина. Они сообщили, что для полноценного вытягивания смятых лонжеронов требуется больше времени, еще примерно две недели. По всему выходило, что обратно нам придется ехать в Москву на рейсовом автобусе. Ламкин уже смирился с этим, а также с тем, что ему придется еще раз приехать в Белоруссию через две недели.
В очередной раз, когда мы все вместе поехали в Могилев по каким-то делам, я взял с собой рюкзак с лопатой и металлоискателем. Ламкин и его дядя что-то закупали на рынке, а я просто ехал как балласт. Но вот на обратном пути я сообщил им, что хочу выйти на трассе за Чаусами и походить в лесу за Проней хотя бы один день. Они очень удивились, согласились выполнить мою просьбу. Я пояснил, что от меня им сейчас все равно нет никакой пользы, и я все-таки приехал в Белоруссию не просто за компанию, но и по своим делам.
На трассе Могилев-Чериков мы остановились в районе деревни Дрануха, перед мостом через Проню. Мы договорились, что контрольный срок моего возвращения в деревню будет через 3 дня. Если мне понадобится, то я позвоню ему на мобильный телефон и сообщу точку, в которую нужно будет приехать за мной на машине. Но это будет в крайнем случае, а так я обещал быть не позднее этого срока дома и добраться до деревни самостоятельно. Я вышел из машины, забрал из багажника рюкзак и попрощался с Ламкиным. Машина уехала, и я остался один на один с природой. Отойдя с дороги в лес, я поменял гражданскую одежду на копательский прикид и пошел исследовать лес на высоком берегу Прони. Что я знал об этих местах из истории? Во многих документах писали практически одно и то же, повторяя из слова в слово, что на западном берегу реки немцы создали мощные оборонительные сооружения. Они состояли из трех позиций и размещались в 300—500 метрах от реки, преимущественно по высотам и опушкам. Линии траншей соединялись ходами сообщений, перед окопами были установлены ряды колючей проволоки, некоторые позиции прикрывались рвами с водой.