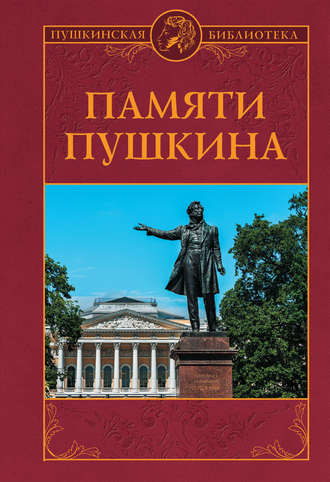
П. В. Владимиров
Памяти Пушкина
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
VII глава:
Вот это барский кабинет:
Здесь почивал он, кофей кушал
Прикащика доклады слушал,
И книжку поутру читал…
…………………………………………….
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками сжатыми крестом…
…………………………………………….
И старый барин здесь живал.
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дураки.
Дай Бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать земле сырой!
…………………………………………….
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настежь отворяет дверь
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.
……………………………………………..
Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят…
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
VIII глава:
Чем ныне явится?
Мельмотом, Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой
Иль маской щегольнет иной?
Иль просто будет добрый малый…
…………………………………………….
Стал вновь читать он без разбора:
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят.
В «Евгение Онегине» отразился и путь развития самого поэта, выраженный им в известном поэтическом противоположении «тревог прошлых лет» с безымянными страданиями, с высокопарными мечтами иным родным картинам (III, 408–409). Как хороши эти отрывки «из путешествия Онегина», не вошедшие в великолепное художественное целое романа. Если не сжимать содержания его в голую фабулу, в оценку действий героев, – если читать его, вникая в каждую картину, в каждое выражение, то невольно поражаешься вновь открываемыми красотами «Евгения Онегина»: сжатой живописью природы, движений чувства в молодых героях (особенно Татьяны), деревенской тишины и оживленного шума гостей – разнообразных, типичных. Уже по «Евгению Онегину» можно судить о силе таланта Пушкина: ему были равно доступны в высшей степени и описания, и выражения чувств, и драматические изображения: трагические и комические (до нас дошли случайные наброски комедии). Мы приведем несколько картин природы бесподобных и в отдельности, и еще более – в гармонии с настроениями героев романа:
Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет. Там долина
Сквозь пар яснеет. Там поток
Засеребрился; там рожок
Пастуший будит селянина.
Вот утро; встали все давно…
………………………………………..
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены…
…………………………………………
Был вечерь. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы.
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна;
Шла, шла… И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
Эти частности, их поразительная верность (например, бесподобная песня девушек или изображения адских привидений во сне Татьяны), их разнообразие, от столичного света до трактира на проселочной дороге, задушевность в их описании сообщают «роману в стихах» Пушкина значение единственного в истории русской литературы произведения, не превзойденного никем из русских писателей. «Граф Нулин» 1825 года и «Домик в Коломне» 1830 года писаны одновременно и совершенно в стиле «Евгения Онегина». Поэт скромно называет «Нулина» сказкой, как Дмитриев «верную жену» в «Причуднице»; а «Домик в Коломне» и начинает сказочным приемом:
Жила-была вдова,
Тому лет восемь, бедная старушка,
С одною дочерью. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка
За самой будкой.
Известна чудная отделка стиха, языка этого игривого рассказа с моралью, в котором, однако, рассыпано столько глубоких определений, выражений, сделавшихся обыденными украшениями нашей родной речи, как из стихов «Евгения Онегина» и других произведений величайшего русского поэта, столько же сильного в мелодии русского слова, сколько глубокого в размышлении, в чувствах.
К повестям и романам в стихах относится «Петербургская повесть – Медный Всадник» 1833 года. Мы говорили уже об ее исторических отношениях. Добавим, что Пушкин хотел не только прославить Петра, выразить свою любовь к Петрограду; но и затронуть вопрос о столичном гражданине – «герое смиренной повести», несмотря на свою родословную, которой посвящен «отрывок из сатирической поэмы» 1833 года. Здесь мы имеем дело опять-таки с художественной работой поэта над вопросами, которые не поддавались открытому решению и составляли предмет размышлений, набросанных Пушкиным в черновых заметках, в журнальных статьях. Поэт не мог их популяризировать, давать им воплощения, так как эти вопросы не составляли общих убеждений, не касались тех слоев, которые были далеки от обездоленных, несчастных по личной судьбе, как герой «Медного всадника», лишившийся всего дорогого в жизни, выброшенный на улицу, обезумевший от перенесенных впечатлений ужаса, отчаяния и утрат. Только такой «родов униженных обломок» мог почувствовать ужас «пред горделивым истуканом» и «злобно угрожать державцу полумира». Несчастный после своих дерзких слов уже со страхом и сердечным смятением пробирался сторонкой:
Картуз изношенный снимал.
Сам поэт, восхищенный памятником или, как будто сам герой его, раздумывающий в минуту страшного прояснения мысли, заключает о роковой воле Петра Великого; и эти мысли все более овладевали самим Пушкиным при изучении эпохи и личности Петра I по архивным материалам:
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию вздернул на дыбы?
Вот образчик глубоких раздумий поэта над судьбами родины, и сколько таких исторических и современных поэту наблюдений заключается в его бессмертных творениях! Их можно судить за неполноту выражения, за неоконченность отделки, за бледность типов и событий; но едва ли можно голословно отрицать блестящие замечания, отделанные, как драгоценные камни, в оправу родного слова. А эта оправа давно уже признана критиками Пушкина всех оттенков бесподобной.
Переходим к прозаическим повестям и романам Пушкина. С 1830 г. он написал целый ряд повестей под названием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.», «Капитанскую дочку» 1833 года. Но еще в 1827 году Пушкин задумал написать исторический роман из семейных преданий и времен Петра Великого, от которого до нас дошел неоконченный отрывок под названием «Арап Петра Великого». Уже здесь видна манера поэта входить в дух, нравы и даже самые выражения времени. Как будто автор напитался складом мысли и выражений Кантемира или записок времени Петра I. Некоторые подробности, во вкусе бесцеремонных выражений литературы XVII–XVIII веков, не портят впечатления от правдивого во всех отношениях рассказа Пушкина о необыкновенной любви арапа, опять-таки во вкусе романов с приключениями XVII–XVIII веков. Общий колорит, однако, сглажен симпатиями поэта: к занятиям науками, к истории Петербурга и к сердцу человеческому, которому поэт доверял на всех ступенях человеческой культуры, не отказывая в добрых движениях ни людям прошлых веков, ни диким инородцам.
Кто-то выразился, что в произведениях Пушкина заключается как бы энциклопедия русской жизни. «Повести Белкина» служат именно подтверждением этого необыкновенно широкого утверждения расположенного к Пушкину критика. И это верно даже в отношении к современной Пушкину эпохе. «Евгений Онегин», «Граф Нулин», «Пиковая дама» изображают высшее светское общество. «Сказки о рыбаке и рыбке», «О Балде», баллады «Утопленник», «Зимняя дорога», «Гусар», «Жених», «Сват Иван», не говоря о частных упоминаниях в больших произведениях (няня, девушки в «Евгении Онегине», мельник и дочь в «Русалке» и др.), касаются простого народа, его верований, быта и отношения к другим классам. «Домик в Коломне», «Медный всадник» и особенно «Повести Белкина» набрасывают целый ряд тех картин из жизни среднего класса людей – мелких купцов, дворян, чиновников, горожан, которых с отрицательной стороны вывел Гоголь. Пушкин, ограничивавший сатиру трезвым взглядом на положительные стороны действительности, соединенные чаще всего с беспокойством совести, с тревогами сердца, даже с трагизмом, сдержанно, как будто сухо, в небольших рассказах умел дать много опытов новой русской повести из жизни этих людей. Это как будто исповеди чиновников, военных, приказчиков, девиц, собранные и изложенные добродушным «покойным И.П. Белкиным», молодым дворянином способным, по незначительности образования, при добром сердце и неопытности в хозяйственных делах, излагать «истории». Какая противоположность с автором почти во всех типах, выведенных им! Перед нами проходят: дуэлист Сильвио, кончающий жизнь в рядах этеристов, богатый гусар Минский, увезший красивую простушку – дочь станционного смотрителя, барышня, пострадавшая от романической свадьбы побегом в метель, эксцентричная барышня Лиза Муромская. Все это соединено с тяжелым горем, со страданиями, пережитыми героями, затянутыми в жизнь привязанностей и страстей. Впрочем, для большинства героев Пушкина все кончается счастливо: минутные горести, вспышки превращаются в удачу, в счастливый исход. Перед нами развивается как будто болезнь любовной страсти. Однако отец счастливой Дуняши – простой станционный смотритель – делается жертвой своей единственной горячей привязанности к дочери, покинувшей случайно отца. И в «Повестях Белкина», как мы уже мельком заметили, Пушкин не забыл своих предшественников, отмечая свое отношение к ним выбором эпиграфов, ссылками на их сочинения (например, на «Наталью боярскую дочь» Карамзина): «Метель» связана и содержанием со «Светланой» Жуковского, «Гробовщик» – с одами Державина на смерть знакомых и знатных. В последнем рассказе Пушкин имеет в виду уже «нынешних романистов», между прочим Погорельского, который в своей повести «Почтальон» ввел элемент фантастичности. У Пушкина в «Гробовщике» фантастика является во сне, как и в «Евгении Онегине» (сон Татьяны). Если в Нарежном и в Погорельском признают предшественников Гоголя, то Пушкин едва ли не учитель великого романиста, имя которого едва ли можно разделять от нашего поэта. Скажем более, изучение повестей Пушкина должно лежать в основе изучения целой школы великих романистов недавнего времени, что было и заявлено отошедшими уже романистами Тургеневым и Гончаровым. Но мы не останавливаемся здесь на значении Пушкина как «учителя».
В чем же талант Пушкина повествователя, романиста? Перед нами небольшие пьесы, так же отделанные, как стихотворные баллады, поэмы. Но стиль их, стиль «смиренной прозы» – ровный, точный, деловой. Предметы и природа описываются с большей точностью, чем в стихах: эпитеты естественны, наблюдательности предоставлено свободное поле. Разговоры действующих лиц и письма вполне передают как особенности речи горожан, так и сельчан – «крестьянское наречие» (IV, 79 и 82). Рассказ ведется то от лица проезжего, то с личными заметками (о деревенской скуке IV, 41; о побеге из Москвы в Петербург в 1810 году и в Псковскую губернию в 1816 году, IV, 65), то с упоминаниями о крупных политических событиях в жизни государства (45, 52, 55). Последние все относятся к военным событиям Наполеоновских войн и освобождения Греции.
«История села Горюхина» относится также к «Повестям Белкина». В предисловии выступает снова старомодный литератор, выучившийся писать по Письмовнику Курганова, побывавший в немецком пансионе, переписывавший тетради стихов, ходившие между полковыми товарищами, читавший журналы и благоговевший перед литераторами. Белкин пытался изобразить Рюрика героем поэмы, трагедии, баллады и сладил только с надписью к портрету Рюрика. Перейдя к прозе, он силился переложить анекдоты в повести и после неудачи остановился на истории села Горюхина. Такова история «Домика в Коломне» в прозе – в приложении к обществу. К сожалению, до нас дошел отрывок, может быть, – нечто, вроде программы; если только это не пародия на «Русскую историю» Карамзина, как думают некоторые. Однако позволено указать одну еще черту, не лишенную интереса для объяснения «Истории села Горюхина». Кто знает провинцию и ее интересы старого времени в кругу грамотного и среднего достаточного сословия, тот знает, конечно, любителей записок, заметок, начиная от летописных до «лавочничьих», или записей изустных преданий. Если бы этот сатирический опыт «Истории» был продолжен Пушкиным, то он представил бы живые типы крестьян и других обитателей села.
Вопрос о распространенности русской литературы, о вкусах разных классов русских читателей занимал Пушкина. Мы видели, что он был невысокого мнения об этой начитанности и об умственных интересах русских читателей и читательниц в особенности. В «Рославлеве» 1831 года, написанном от лица одной знатной дамы, встречаемся с целым очерком русской литературы, которую знатные дамы 1811 года, т. е. года особенного патриотизма с «Беседой любителей российского слова» Шишкова, совершенно не знали, предпочитая французскую, английскую и изредка – немецкую. Пушкин указывает бедность русской литературы (несколько отличных поэтов и в прозе одна «История» Карамзина) и зависимость ее от иностранной. Но войны Наполеона и особенно Отечественная война произвели внутреннее изменение вкусов высшего русского общества: успех «Истории» Карамзина был подготовлен. И это изменение, в лице княжны Полины – с характером, рисует Пушкин: из космополитки явилась патриотка. Опять маленькая картинка – предшественница «Войны и мира» Л.Н. Толстого.
По всей вероятности, работы над «Историей Пугачевского бунта», «Капитанской дочкой» и над «Дубровским» 1832 г. совершались Пушкиным в одно время. «Дубровский» является вполне законченным произведением, хотя великий художник не успел отделать его для печати, что видно из письма Пушкина 1832 года: «Честь имею объявить, что первый том Островского[7] кончен и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение… я написал его в две недели, но остановился по причине жестокого ревматизма, от которого прострадал другие две недели, так что не брался за перо и не мог связать две мысли в голове» (VII, 311). Связь с «Капитанской дочкой» проявляется в «Дубровском» как во времени (XVIII век), так и в месте действия (Волга и прилегающие губернии) и в приключениях героя (разбойничьи шайки). Герой, в самом деле, необычный романический герой, изображен в старых условиях дворянского и народного быта XVIII века. Характеры, обстановка, местности изображены живо. Старый Дубровский и старик Троекуров истые представители дворянской спеси, умевшей отстаивать свою честь даже в бедности. Страстные характеры, воспитанные войной и военной службой, суровые и смелые, с привычками к старинным потехам (медвежья травля), к охоте, к обедам; и рядом – новые люди, вроде селадона жениха князя с его англоманскими затеями, оживлявшими заморскими потехами уединенные глухие поместья, что-то вроде египетских пирамид для крепостных, работавших в этих подражаниях европейским замкам. Ненормальные явления этой жизни создавали и такую молодежь, как «славный разбойник» Дубровский из гвардейских офицеров, и целое село воровских людей. Героиня – опять русская образованная барышня с характером Татьяны. Живопись местностей отличается общими свойствами пушкинской манеры: «Князь подвел гостей к овну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами; по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля; несколько деревень оживляли окрестность» (IV, 165). Мы не знаем повторений у русских романистов таких, например, картин, как следующая: «Луна сияла; сельская ночь была тиха; изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду» (167). Это прием поэта «Полтавы», «Евгения Онегина», поэта, который обладал могучим, всесторонним, поразительным талантом.
Еще скажем о «Русалке» 1832 года, но только как о произведении, завершающем опыты Пушкина в воспроизведении народного быта, народной истории. Мелкие черты связывают это глубоко продуманное произведение Пушкина с повестью Карамзина «Наталья боярская дочь», например, в первой сцене дочь мельника собирается идти за князем на войну, «переодевшись мальчиком» (III, 461). Сцены «Русалки» не носят определенных черт местности и времени, хотя и связаны с берегами Днепра (может быть, северного, ближе к великорусскому населению) и с русской княжеской стариной среднего периода (московского, литовского). Но сколько в них бытовой и исторической правды, начиная с языка – с приметами книжной речи (актовой, летописной) и еще более – народной песенной. Вообще приемы изложения напоминают перо автора «Бориса Годунова», «Жениха» и известного ряда бытовых картин из русского народного быта и истории. Характеры лиц очерчены необыкновенно выразительно: энергичные выражения простонародной красавицы, особенно в минуты страсти и ревности, исполнены такой же силы, как и нежные выражения ее о самопожертвовании и любви; мельник и князь одинаково прозаичны, практичны и гибнут от нарушения их бессердечных обыденных расчетов. Сцены свадьбы и видений русалок не воспроизведены еще никем в нашей словесности в такой мере глубокого проникновения в народную душу, если не считать известных описательных сцен народных обрядов и поверий в драмах и повестях художников-этнографов. Вообще говоря, «Русалка» Пушкина – это бесподобный образец художественного изложения народной истории и быта. Только другой славянский поэт умел так же рисовать народные поверья, народную жизнь, как Пушкин, – и это, не называя его имени, был современник и друг (одно время) Пушкина. Оставляя в стороне разницу в их настроениях, нельзя не видеть одинаковых стремлений найти правду, красоту и мир в отношениях прошлого и настоящего, высокого по положению и низкого в жизни родственных племен. В конце концов, отбрасывая тяжелые материальные давления (насущных ежедневных потребностей, роскоши, боязни за средства и пр.), поэты сливались в возвышенных мечтах о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся. Мечтательные видения, хотя бы в рамках народных суеверий, как будто роднят народности. Это романтика, соединенная с приемами шекспировского творчества. Вот достоинства этого неоконченного произведения Пушкина, глубокого значения которого в последующей русской литературе мы не будем здесь касаться. Не останавливаясь на всех народных особенностях «Русалки», мы не можем не привести несколько примеров из речей дочери мельника, которые очерчивают красавицу старой Руси XVI–XVII веков: «Или он зверь… иль его отравой отравили; пускай же б он с досады отрубил мне руки по локоть; пускай бы тут же он растоптал меня своим конем, отстань от нас, ты видишь: две волчихи не водятся в одном овраге… выкупить себя он думал, он мне хотел язык засеребрить, чтоб не прошла о нем худая слава и не дошла до молодой жены, змеею он меня – не жемчугом опутал… (рвет с себя жемчуг). Так бы я разорвала тебя, змею-злодейку, проклятую разлучницу мою!» Тут нет ничего неестественного, преувеличенного для того, кто знает народные русские песни, характер русской простонародной женщины, старые дела. Поэт-лирик также силен и в изображении нежных любовных речей между князем и его возлюбленной – мельничихой. Но мы не приводим этих речей. Опускаем и обзор еще других произведений Пушкина, которые заслуживали бы внимания в ряду рассматриваемых нами сюжетов, относящихся к русской жизни и истории.
В 1833 году Пушкин после поездки в Оренбург, через Казань и Пензу, докончил «Капитанскую дочку». Это такое же крупное произведение поэта, как «Евгений Онегин». В области исторического русского романа «Капитанской дочке» принадлежит одно из выдающихся мест. Уже эпиграфы к отдельным главам (12) романа указывают на некоторые источники Пушкина: народные песни и песни, басни, комедии, поэмы XVIII века. Прибавим некоторое отношение героев и частностей романа к роману А. Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» 1799–1801 гг. Стиль русской литературы XVIII века проглядывает в «записках» Гринева, от лица которого ведется рассказ (его воспитание, его приключения до службы). Этим же стилем объясняются размышления автора об ужасах прошлой жизни и ссылки на «старинных романистов». Главное действие романа совершается в 1772–1773 годах, и в VI главе Пушкин говорит о состоянии Оренбургской губернии, о нравах времени: «Когда вспомню, что это (судопроизводство с пыткой) случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространения правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои (пишет Гринев; «семейственные записки» IV, 242) попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (221). Герой романа сочиняет песенку в подражание А.П. Сумарокову. Письма действующих лиц, их размышления и разговоры живо переносят в изображаемое время. Типы помещиков так же живы, как и типы военных, казаков, инородцев, крестьян. Авторская опытность, изучение источников пугачевщины, поездка в Оренбург и изучение местной жизни придают высокое образцовое значение «Капитанской дочке» в истории русской литературы. Такой поэт мог создавать только точные исторические картины. Изображение семейств Гриневых, Мироновых напоминает приемы автора «Евгения Онегина»; но не повторяются черты; и разница во времени, в сословных и местных особенностях, в речи действующих лиц выступает с наглядной очевидностью для всякого читателя. Самая романическая история любви Петра Андреевича Гринева и Марьи Ивановны Мироновой отличается задушевностью, патриархальной русской скромностью и трогательной искренностью простого, однообразного, но деятельного и героического по необходимости и условиям времени быта русских людей средней руки. В длинной и разнообразной галерее женских типов Пушкина Марья Ивановна занимает видное место. Это героиня несчастной эпохи кровавых ужасов, любящее сердце которой изображали и древнерусские памятники литературы (так стремится помочь своему пленному мужу Ярославна XII века, Евпраксия не переживает убитого героя в XIII веке) и народные былины, в лице жены заточенного Ставра, освобождающей мужа. Миронову можно поставить рядом с образованной, светской Татьяной, с героической Наташей («Жених»), с Натальей Павловной («Граф Нулин») и др.
Изображение пугачевщины, сосредоточенное около слабой Белогорской крепости, передает с достаточной полнотой черты времени: приступ инородцев и казаков «с страшным визгом и криками» (знакомая черта воинственных приемов степняков по летописям) и вылазка солдат с барабанным боем, предавших коменданта, встреча священником (защитником и укрывателем несчастных) победителей с колокольным звоном, прощение пленных и грабежи с пожарами, убийствами и виселицами. Пугачев, его окружающие, привычки русской вольницы и дикие нравы степняков, внутренний мятеж и воспоминания о нравах украинных людей, рассчитывающих на успех, – все это изображено Пушкиным с чувством меры и без преувеличения. В Пугачеве представлено даже много сдержанности в отношении к пленным офицерам, к Савельичу, забывающему из-за мелких интересов о собственности (барском добре), о подозрительности и вспыльчивости мятежников. Как поразительно правдива калмыцкая сказка, вложенная в рассказ мятежного Пугачева с его диким вдохновением преступника и руководителя народного возбуждения, разгула и удачи поднятого восстания. Это сказочная эпопея Разина, предводителей мелких шаек, самозванцев. Это народная история, в которой многое оправдывается своеобразными легендами, какими-то дикими преданиями и рядом поражающими, пассивными, страдальческими периодами текущей жизни. Что касается языка и изложения романа, то достаточно привести несколько образчиков речи действующих лиц, чтобы видеть их соответствие с характерами: «Почему, думаешь ты, что жило недалече? – А потому, что ветер оттоль потянул; и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко» (разговаривают Гринев-офицер и казак Пугачев); «А, смею спросить, зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон? чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки? – Полно врать пустяки, сказала ему капитанша, ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… держи-ка руки (с мотком ниток; держал старичок офицер, подчиненный коменданта) прямее; а ты, мой батюшка, не печалься, что тебя упекли в наше захолустье»; «А, слышь ты, Василиса Егоровна, я был занят службой: солдатушек учил (говорил капитан). – И, полно! возразила капитанша, только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь»; «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле… Ах, мой батюшка! да разве муж и жена не един дух (говорила комендантша, принимавшая непосредственное участие в наказании офицеров-дуэлистов). Иван Кузьмич! что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у Бога прощения да каялись перед людьми». Иван Кузьмич расходился, однако, с энергичной соправительницей в вопросе о пытке: «Постой, Иван Кузьмич, дай, уведу Машу куда-нибудь из дому… да и я, правду сказать, не охотница до розыска». Если в этих речах кое-что напоминает Фонвизина, то зато отличается большей цельностью, типичностью, добродушием и в одном лице показывает разнообразие человеческих движений: чувства, мысли, сердца. И «Капитанская дочка» доказывает, что Пушкин не способен был к расплывчатости, скуп на картины природы, на подмечивание всех переливов света и теней, на искусственность в задержках и развитии действий своих героев. Он быстро писал, долго обдумывал и долго отделывал свои сжатые произведения. В прозе он любил даже искусственные упражнения, вроде исторических заметок в стиле Тацита. В этом Пушкин расходился с Карамзиным, для которого разнообразные размышления и искусственные колебания чувства действующих лиц составляли предмет любимого изложения. У Пушкина все выливалось в однообразную непосредственную форму. И нигде это так не очевидно, как в лирике поэта, к которой мы теперь и обращаемся.
III
Лирика А.С. Пушкина, этот ряд блестящих стихотворений, за 23 года его литературной деятельности (с 1814 до 1837 года), представляет не только высоту художественных произведений, но и летопись времени и – личной жизни поэта. К сожалению, лирика Пушкина не дошла до нас в своей полной, непосредственной форме. За ней скрываются события времени и чуткая душа поэта, откликавшаяся, как стройный орган, как эхо, на все явления внешней и внутренней жизни. Многое, написанное под живым впечатлением минуты, поэт берег от печати, уничтожал, сокращал, опускал намеки. Тем не менее ни у кого из русских поэтов нет столько искренности в душевной исповеди, столько глубины в оценке русской действительности, как у Пушкина. Поэт работал неустанно, запасаясь материалами для крупных произведений, доставлявших доход ему, всматриваясь в окружающую жизнь, успокаивая себя сладкозвучными стихами, подбирая рифмы, куплеты, стихи, выражения. Нашего величайшего поэта нельзя представить себе иначе, как с записной книжкой, с тетрадями. Эти черновые материалы дошли до нас: наброски, варианты, исправления вносятся во все научные и полные издания сочинения Пушкина. Как важны даже мелкие приписки к стихотворениям поэта, например, хронологические пометы, можно судить по тому, что одно и то же произведение, по-видимому, то личного, то общего характера, то говорит о любви поэта к какой-то определенной красавице, то говорит о людях, вызвавших в Пушкине сердечное сожаление своей печальной судьбой. При всей воздержности поэта в рукописных стихотворениях его сохранились горячие строки, обращенные к жестокому веку, к свободе. Перед нами проходят: победы Наполеона I, торжество России, годы, последовавшие за возвращение русских и императора Александра I из европейского похода, годы реакции и ссылка Пушкина, милость власти, переезды поэта, милость к Пушкину императора Николая I, военные движения, холерные годы, тревожные события 1831 года и сатирический голос поэта о времени и обществе 30-х годов. И личная жизнь поэта, начиная с родственных и товарищеских отношений, с годов Лицея, со вступления в жизнь света, литературы, службы до интимных отношений к красавицам, к мучительному чувству любви, к упоении ею, к раздумьям, к страданиям и смерти, к надеждам и отчаянию – все это отразилось в поэзии Пушкина. Не вымученными, не односторонними, не цельными отделанными стихами выливались и чувства и мысли Пушкина, а разнообразными, бойкими переливами мелодий грустных и торжественных, веселых и желчных, горячих до самозабвения и нежных до детской незлобивости. Уже эти свойства лирики Пушкина указывают на ее привлекательность, увеличиваемую внешними художественными достоинствами. Конечно, не все пьесы Пушкина одинакового достоинства в этом отношении, не говоря уже о постепенном развитии, постепенном усовершенствовании лирики со стороны формы, начиная с пьес 1820-х годов. Прежде чем обобщить характеристические особенности пушкинской лирики, нельзя не коснуться ее развития в хронологической последовательности, привлекая к ней и другие сродные произведения пушкинской Музы. Конечно, уже в лицейских стихотворениях Пушкина (1814–1817) встречаемся с некоторыми настроениями, чувствами и мыслями, которые повторяются и в последующих произведениях поэта. Примеры таких повторений (хотя бы в «Руслане и Людмиле» и в «Полтаве») мы приводили выше.
Прибавим еще к сказанному в первой главе резкий пример подражания Пушкина в известном раннем «Романсе» 1814 года («Под вечер осенью ненастной») Жуковскому. В 1813 году в «Вестнике Европы» Жуковский напечатал «Песню матери над колыбелью сына». Зависимость популярного полународного романса Пушкина от стихотворения Жуковского (также переводного «из Беркеня») заслуживает особенного внимания, и мы приведем здесь несколько выдержек из «Песни матери над колыбелью сына» (Стихотворения, 1896 г. т. I, стр. 308–311):




