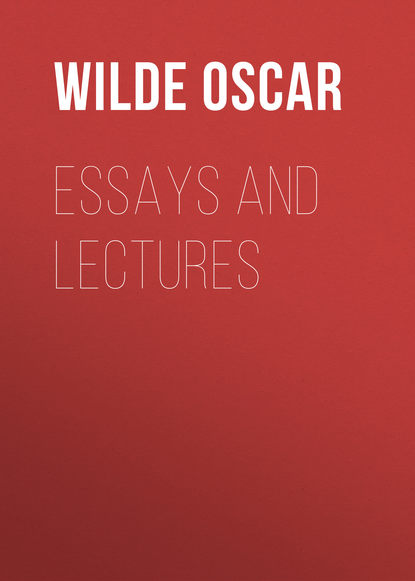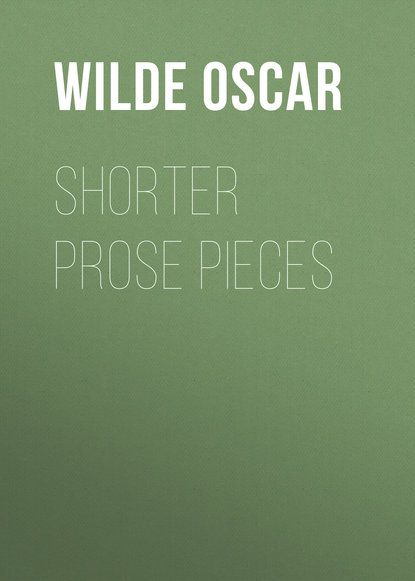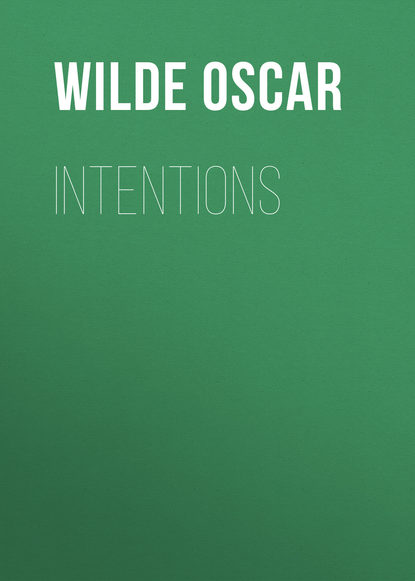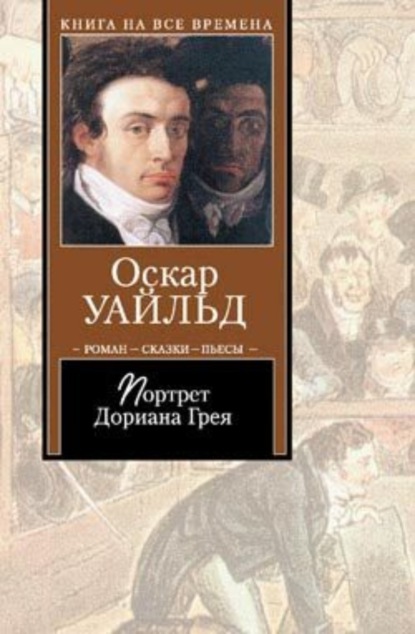
- Рейтинг Livelib:4.2
Полная версия:
Оскар Уайльд День рождения Инфанты
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Оскар Уайльд
День рождения Инфанты
Г-же Гренфелл из Теплоу-Корт (леди Десборо)
* * *
То был день рождения Инфанты. Ей исполнилось двенадцать лет, и солнце ярко светило в дворцовом парке. Хотя она была самой настоящей Принцессой и Инфантой Испанской, день рождения у нее бывал раз в году, совсем как у детей бедных родителей; само собой разумеется, для всей страны было очень важно, чтобы этот день удался на славу. День и правда удался на славу. Высокие полосатые тюльпаны навытяжку стояли на своих стеблях, словно длинные шеренги солдат, и задорно поглядывали через газон на розы, говоря: «Теперь и мы не хуже!» Вокруг порхали пурпурные бабочки с золотистой пыльцой на крылышках и не пропускали ни одного цветка; ящерки повылезали из расщелин стены и лежа грелись в ослепительном белом блеске солнца; плоды гранатов, трескаясь и лопаясь от зноя, обнажали свои кровоточащие красные сердца. Даже бледно-желтые лимоны, в таком изобилии висевшие на расшатанных решетках и в тени аркад, казалось, обрели под чудесным солнечным светом более насыщенный оттенок, а магнолии раскрыли свои большие шарообразные цветы, словно выточенные из слоновой кости, и напоили воздух густым сладостным ароматом.
Сама маленькая Принцесса прогуливалась по террасе со своею свитой и играла в прятки возле каменных вазонов и старых, замшелых статуй. В обычные дни ей дозволялось играть только с детьми королевского достоинства, и потому ей всегда приходилось проводить время в одиночестве, но в день ее рождения было сделано исключение, и, согласно распоряжениям Короля, она могла пригласить в гости тех своих юных друзей, которые ей по нраву, и веселиться вместе с ними. Была величавая прелесть в прогуливавшихся с нею изящных испанских детях: на мальчиках были шляпы с плюмажем и короткие развевающиеся плащи, девочки придерживали шлейфы длинных парчовых платьев и закрывали глаза от солнца массивными веерами цвета черного серебра. Но Инфанта была прелестнее всех, и платье на ней было в лучшем вкусе, согласно несколько тяжеловесной моде того времени. На ней был серый атласный наряд, юбка и широкие рукава буфами расшиты были серебром, а жесткий корсаж усеян рядами прекрасных жемчужин. При каждом шаге из-под платья выглядывали туфельки с большими розовыми помпонами. Ее веер из розовой кисеи покрывали жемчужины, а в волосах, которые бледно-золотым ореолом обрамляли ее лицо, была прекрасная белая роза.
Из дворцового окна на детей смотрел печальный, погруженный в меланхолию Король. За спиною у него стоял ненавистный ему брат, дон Педро Арагонский, а рядом с ним сидел его исповедник, Великий Инквизитор Гранады. И был Король печальнее обычного, ибо, глядя, как Инфанта с детской серьезностью отвечает на поклоны придворных или, закрывшись веером, смеется над мрачной Герцогиней Аль-букеркской, всегда ее сопровождавшей, он вспомнил ее мать, молодую Королеву, которая еще совсем недавно – так казалось ему – приехала из веселой французской земли и увяла в мрачном великолепии Испанского Двора, скончавшись всего через полгода после рождения дочери и не успев во второй раз увидеть, как цветет миндаль в саду, и собрать второй урожай со старой кривой смоковницы, стоящей посреди двора, ныне поросшего травой. Так велика была любовь Короля, что он не потерпел, чтобы могила скрыла от него Королеву. Ее тело бальзамировал мавританский врач, и в награду за эту услугу ему была дарована жизнь, на которую, как поговаривали, за еретичество и по подозрению в колдовстве уже покушалась Святая Инквизиция, и тело Королевы по-прежнему пребывало на застланном гобеленами ложе в черной мраморной часовне Дворца таким же, каким внесли его туда монахи в тот ветреный мартовский день двенадцать лет назад. Раз в месяц Король, завернувшись в темный плащ и держа в руке потайной фонарь, входил в часовню и опускался на колени рядом с Королевой, взывая: «Mi Reina! Mi Reina!»[1] – а порой, поправ формальный этикет, который в Испании царит надо всем, что делает человек, и ставит предел даже скорби Короля, он в безумном припадке горя сжимал ее бледные, украшенные перстнями руки и пытался неистовыми поцелуями разбудить холодное раскрашенное лицо.
Сегодня он, казалось, снова видел ее такой, какой встретил впервые, в замке Фонтенбло, когда ему едва исполнилось пятнадцать лет, а она была еще моложе. Тогда они по всей форме были обручены Папским Нунцием в присутствии французского Короля и всего двора, и он воротился в Эскуриал, унося с собою колечко светлых волос и воспоминание о детских губах, поцеловавших его руку, когда он садился в карету. Потом была свадьба, спешно совершившаяся в Бургосе, маленьком городке на границе двух государств, и торжественный въезд в Мадрид, где согласно обычаю отслужили молебен в церкви Ла Аточа и с большим, чем обычно, размахом провели auto-da-fe, на котором для сожжения в руки светских властей было передано около трехсот еретиков, и среди них – много англичан.
Да, он безумно любил ее – и, как считали многие, во вред собственной стране, воевавшей в то время с Англией за владения в Новом Свете. Он не отпускал ее от себя ни на шаг; ради нее он забыл – или казалось, что забыл, – все важные государственные дела и с ужасающей слепотой, которой награждает своих служителей страсть, не замечал, что хитроумные церемонии, которыми он хотел порадовать ее, лишь усиливали ту непонятную болезнь, от которой она страдала. Когда она умерла, Король на какое-то время словно лишился разума. Он, несомненно, отрекся бы от престола и удалился в большой монастырь траппистов в Гранаде, почетным настоятелем которого он был, если бы не боялся оставить маленькую Инфанту на милость брата, который, даже по испанским меркам, славился жестокостью и которого многие подозревали в том, что это он умертвил Королеву с помощью пары отравленных перчаток, поднесенных ей в честь ее приезда в его замок в Арагоне. Даже по истечении официального трехлетнего траура, объявленного во всех владениях Короля особым эдиктом, он и слушать не хотел, когда министры заговаривали о новом супружестве, и когда сам Император направил к нему послов и предложил ему руку очаровательной Эрцгерцогини Богемской, своей племянницы, он велел послам ответить их повелителю, что Король Испании уже обвенчан со Скорбью, и, хотя она не принесет ему потомства, он любит ее сильнее Красоты; этот ответ стоил его короне богатых нидерландских провинций, которые, вняв подстрекательствам Императора, вскоре восстали против Короля, руководимые фанатиками реформистской церкви.
Вся его супружеская жизнь с неистово-жгучими радостями и ужасной агонией ее внезапного конца сегодня, казалось, возвращалась к нему, когда он смотрел на Инфанту, игравшую на террасе. Ей была присуща милая порывистость Королевы, она так же своенравно вскидывала голову, так же горделиво кривила прекрасные губы, так же чудесно улыбалась, воистину vrai sourire de France[2], когда время от времени поглядывала на окно или протягивала ручку для поцелуя величавым испанским придворным. Но громкий смех детей резал ему ухо, и яркое безжалостное солнце потешалось над его печалью, и неясный запах тех странных снадобий, которые применяются при бальзамировании, осквернял – или ему только это чудилось – чистый утренний воздух. Он закрыл лицо руками, и когда Инфанта вновь подняла глаза, занавесь была задернута и Король уже удалился.
Она состроила разочарованную moue[3] и пожала плечами. Король, конечно, мог бы побыть с нею в день ее рождения. Кому нужны эти глупые государственные дела? Или же он направился в ту мрачную часовню, где всегда горят свечи и куда ее никогда не пускают? Как это нелепо – ведь ярко светит солнце, и все так счастливы! И потом, он пропустит шуточный бой быков, на который уже зовет труба, не говоря о кукольном театре и прочих чудесах. То ли дело ее дядя и Великий Инквизитор! Они вышли на террасу и наговорили ей милых комплиментов. И вот, вскинув головку, она взяла дона Педро под руку и, спустившись по ступеням, медленно пошла к большому шатру пурпурного шелка, а другие дети, пропуская вперед более знатных, последовали за нею, и первыми шли те, кто носил самые длинные имена.
Навстречу ей вышла процессия юных дворян, одетых в фантастические костюмы тореадоров, и молодой граф Тьерра-Нуэва, поразительно красивый отрок лет четырнадцати, обнажив голову со всей грацией урожденного испанского идальго и гранда, торжественно подвел ее к маленькому креслу из золота и слоновой кости, стоявшему на помосте над ареной. Дети, перешептываясь и обмахиваясь веерами, встали вокруг, а дон Педро и Великий Инквизитор, посмеиваясь, остановились у входа. Даже Герцогиня – или, как называли ее, Старшая Камерера, – сухопарая дама с резкими чертами лица, в платье с жестким плоеным воротником, и та, казалось, пребывала не в столь скверном настроении, как обычно, и подобие ледяной улыбки промелькнуло на ее сморщенном лице и покривило ее тонкие, бескровные губы.
Бой быков, по мнению Инфанты, великолепно удался и был куда лучше настоящего, который она видела в Севилье, когда к ее отцу приехал Герцог Пармский. Одни мальчики гарцевали на покрытых роскошными чепраками игрушечных лошадках и потрясали длинными копьями, к которым были привязаны яркие, пестрые ленты; другие, спешившись, помахивали перед быком алыми плащами, а когда он бросался на них – легко перепрыгивали через барьер; что до самого быка, он был совсем как настоящий, хотя сделан был из плетеных прутьев, на которые натянули шкуру, и то и дело норовил встать на задние ноги, что и в голову не придет живому быку. Этот бык бился просто великолепно, и дети пришли в такой восторг, что повскакали на скамьи и, размахивая кружевными платками, закричали: «Bravo tore! Bravo tore!»[4]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Моя Королева! Моя Королева! (исп.)
2
настоящей французской улыбкой (фр.).
3
гримаску (фр.).
4
Браво, бык! Браво, бык! (исп.)