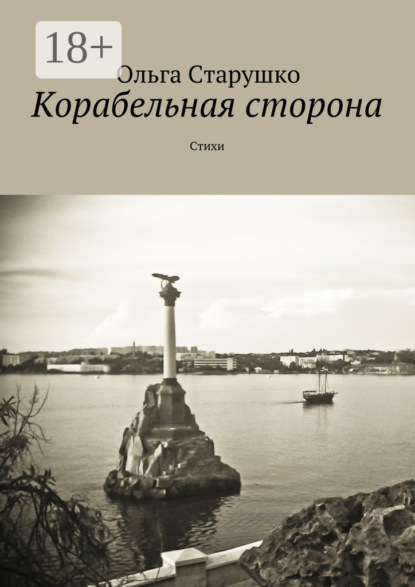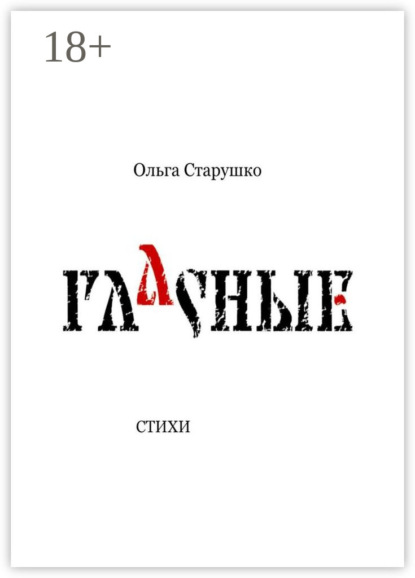
Полная версия:
Ольга Старушко Гласные. Стихи
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Гласные
Стихи
Ольга Старушко
© Ольга Старушко, 2022
ISBN 978-5-0056-6323-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В темноте и тесноте,скованы по-разному,на свободу из-за стенрвутся только гласные.Выйдет «О», белым-бело,словно поле в инее.Васильками расцвело«И» как небо синее.Ставь им твёрдых, ставь глухих —всё труды напрасныя:разметут согласных их,опрокинут гласные.Луговую мураву«У» колышет волнами.Греет «Э», пока живутэти звуки вольные.«А» пылает как пожар,ярче солнца красного.И когда горит душа,тянешь только гласные.Петь-дышать да голосить,горевать да праздновать:сколько воли на Руси,скажут только гласные.

Речь
Почитайте стихи – не глазами, а вслух.Слову нужно дышать, и поэзия – дух,а не буквы и строки в столбец на бумаге,и поэт выдыхает не знаки, а звук.Повторяйте слова, это всем по плечу,наша речь, наше слово – шестое из чувств.Вдох и выдох – сигналы сердечного ритма:я читаю, и значит, живу и звучу.Безголосые буквы лишь тень на стене,а течение речи полнее вдвойне,если голос поэта услышит читательи вдохнёт, чтобы звук не иссяк в тишине.Только выдох и вдох оживляют слова,только нашим дыханием речь и жива.Говорите стихами любимых поэтов,множа голосом голос, дыханье – на два.Сладко
То ли сладость последней малины,языков облепихи рыжьё,то ли солнце, пекущее спинутак, что клонит сомлеть в забытьё,то ли мхами и вереском стелетопоздавшее лето, хотядве украдкой согретых недели —это август ещё, не сентябрь,то ли круг паутинной обновыналетел на небесную ось,то ли яблоком падает слово:подберёшь – и кусаешь взасос.Пух
Пушка ли бухнет полдневная гулко,вспухнет ли туч грозовых синева,видится, чудится: бонна, прогулка,мальчик, едва лепетавший слова.Пух тополей пролетит над Басманной,снег над Михайловским, болдинский лист,пара кленовых лепажей.Как рано —двадцать шагов до ствола басурмана,чорная Лета и стынущий гипс…Здесь – чудеса: околдованный видом,двадцатилетним влюбившись в Тавриду,он пронесёт эту страсть сквозь года.Станет ли счастлив, найдёт ли отраду,если однажды запишет в тетради:чести моей никому не отдам?…Лето.За речкой восток золотится.Ангел махнул тополиным крылом,видя склонённые к мальчику лица.Саша родился.И солнце взошло.Слово
Вздыхает юг, и влажное теплопропитывает меркнущие рощи.С ветвей сползает лиственная плоть:сопреть, истлеть.Туман идёт на ощупь,похолодев, сгустится до крупы,насытит воздух, скрадывая звуки.И отпадёт нужда в словах.Любых.И онемеет лес, воздевший руки,и в белом шуме будет только свист,сухого снега шелест, шёпот, шорохна ледяном ветру.И ты таись,покуда в кронах безголосых, голыхне забурлит от света жаркий соки почки не нальются, чтобы сновасвободно с языков зелёных тёкнемолчный лепет лиственного слова.Дровосек
Народился только позавчера:буквы эр блестит наточенный серп,месяц – лезвие того топора,что несёт за горизонт дровосек.В чернолесье в самый раз топоры —гарь очистить от упавших берёз.Снизу ветер пробирает до слёз.Сверху звёзды точно гвозди востры.И подлесок, и метёлки травысхватит иней: за его сереброим наутро не сносить головы,нажитое рассыпая добро.Эх бы снег, да рановато ещёзасвистать ему – и знать, потомудровосек пока уходит во тьму,заложив топор за право плечо.Кратко
Кра-кра. И через паузу – кра-кра.С ветвей берёзы грай летит вороний.Где на тропинке грязь была вчера,сегодня иней выделяет корни.Кра-кра, не унимается, кра-кра,смотри же под ноги, потом смотри на небо:что здесь оставить, что с собою брать,с кем быть, что выть, кому воды и хлеба,медяк луны на веки, серебраосклизлого на потные ладони —кра-кра, определись, орёт, кра-кра.Но клич его в тумане вязнет, тонет:так дребезжит забытый телефон —коробка эбонитовее птицы —и, заземлённый, сетует, что онни вниз, ни вверх не может дозвониться.Холод
Скальда клятвой не сковать ни с кем.Рунный звук из рук его – ручей.Сколько слёз напрасных на пескени роняешь, скальд своих речейне прервёт. Не пьёт вино вождя,нити новых песен находя.Дождь ласкает скалы долгий век.Смолкнет скальд – сгустится стылый снег.Потому и плачет, и поёт,пусть обет тебе и не принёс.Вот и сердце не вмерзает в лёд,вот и свет струится от волос.Дмитрию Мельникову
I
Травой взойти в сени высоких, светлых,травой и быть – нехоженой, лесной.И слушать скрип стволов, их споры с ветром,расти под солнцем, пахнущим сосной.Под утро обомлеть, как грянут птицынемалым хором славных певчих сил.И видеть снизу блики: свет дробитсяи колется сквозь мириады игл.А если дождь случится, то по каплеловить, и бить поклоны, навзничь лечь —и снова встать, и жадно пить.Не так лимы открываем рты, ловя родную речь?II
Как ходит дубрава?По метру за век.Из кроны латунной, тяжелойпадёт на траву под листву или снегкалёный лоснящийся жёлудь.Сорока-воровка его подберётзимой пропитания ради,но ворон пугнёт у плакучих берёз,тряхнёт черно-белое платье,и жёлудь, без шляпки уже, кувыркомдостигнет земли под брусникой.Укрытый корнями, укутанный мхом,весной из-под снега возникнетупрямый дубок, раздвигая цветы,и прель, и сосновую хвою.Он жив, хоть и падал с такой высоты.И к осени листья удвоит.Кудрява всё выше его голова —окрепнет и встанет над чащей.Однажды и мы проронили слова.И пусть их кто хочет растащит.III
«Я мёрз, рука моя болела…»
Дмитрий Мельников
До темноты обшивку для пристройки —сырой доски тяжёлые хлысты —сложил стопой: так складывают строкина чистые тетрадные листы.Пил чёрный чай.Натруженную рукуберёг как мог, растапливая печь,массировал и на весу баюкал,грел об стакан.Лилась родная речь.Бумага, грифель – всё верней, чем гаджет.Он скажет, как никто сказать не смог.И отпечатки пальцев в хлопьях сажиостались на линейках между строк,да след кошачьих лап, едва заметный,по рукописи – пеплом (не горят),да тени лип в неверном лунном светехолодного, как вечность, декабря.Миндаль
Чернела грубая кора,но розовая пенацветов, увиденных вчера,закрыть её успела.И свет сиял, и был покойнад морем и над сушей,и от миндальных облаковмне становилось лучше,но снова дождь и снова шторм,и помрачнели дали.Ты не рассказывай мне, чтос тем деревом миндальным.Пускай оно во сне гориткак розовое пламяи греет, греет изнутри,как мы не сможем сами.Одуванчики
Будет ветер, будет град.Перепутана трава.Не удержишь – улетятслишком лёгкие слова.Станут сами по себе:не твои уже – ничьи.По ночам их станут петь,повторяя, соловьи.И когда находит стих,как июньская гроза,отпусти их, отпусти.На ветру стоять нельзя:побелеет голова.Полетят среди дождейодуванчики-слова,отрываясь от людей.Коло
Гроза была ещё вчера,сминая и смущая.За солнцем вслед идёт жара,тяжёлая, большая.Уже вот-вот солнцеворот:ромашковой глазуньейк июлю поле полыхнётиз росного июня.Гроза тучнеет изнутри —Не выдоено вымя.И электричеством искрит,как поезд на Владимир.Роса
Выйдешь, скрипя зубами, впиваясь в ночь —ночь, да такую, что все соловьи пьяны.Не шелохнувшись, берёзы глядят в окно:чёрные пряди под синим огнём луны.Вот тебе май, одуванчиков млечный дым,волны сирени – до третьего этажа.Ландыш за сердце берёт, и такое с нимделает, что ни вздохнуть, ни зубов разжать.Вынут всю душу пением.Лепесткизвёздные пряны – пала уже роса.Вот тебе май, и запомни его таким:сердце на части, не выплаканы глаза,три соловьиных октавы, огонь тоски,жгучая боль от счастья.И седина в волосах.Вороново
Я помню: было страшно, горячо —и беспросветно, сумрачно, бескрыло.По ворону на каждое плечотогда-то мне судьба и посадила.А я так вожделела соловьёв,чтоб изойти на звук медовым горлом.Но мне сказали – это не твоё.И я послушно всё, что пело, стёрла.На каждое движенье сгоряча,на всякое, пусть малое, усильелёг наговор: молчать-молчать-молчать.Носила эти аспидные крыльятак долго, что теперь вросли в плечои вытекают в грифель карандашный.Пускай вокруг темно и горячо,но мне не страшно петь.Уже не страшно.Луч
Когда он настанет, последний из дней,и я замолчу, уходя,пусть вечер июня почудится мнеи запахи после дождя.Без этого мы и при жизни мертвы.И как же пронзителен вдругот пасынков дух помидорной листвына коже темнеющих рук!Не думать о том, для чего я живу,не помнить, что сказано мной.Есть луч золотой, пронизавший траву,и влага, смирившая зной.Тяжёлые головы роз.Виноград,цветущий на юной лозе,тутовник, и дрок, и морские ветра:все краски и запахи все,пока ещё можно смотреть и дышать —отпущенный срок невелик —впитаю.Так пьют, никуда не спеша,мелисса, тимьян, базилик.И будет неважно, о чём прошепчупотом, растворяясь вдали,поняв, что подобно воде и лучукасалась нагретой земли.Одна вторая
В тангокак в жизни: здесь всё спонтанно,несмотря на обилие правил.Если начать с азов,он и она приглашают друг друга глазами,от ближнего столика или через пол-зала.Без слов.Представьте, что между ними натянутбикфордов шнур, с обеих сторон сгорая.Танговзрывается в ритме одна вторая.В тангодва сердца грохочут, удваивая удары.Он и она образуют целое: пару,двуглавое существо с четырьмя ногами.Между телами не вставить и лист бумаги.Быть вместе – главное в танго,и это не тайна.Подошв, припудренных тальком,не отрывают от пола, скользят по-кошачьи,ласкают его и гладят:очо, болео, ганчо,хиро, очо кортадо…Прижавшись щекой к щеке, она ему так доверяет,что закрывает глазаи делает шаг назадв ритме одна вторая.Он делает шаг вперёд:мужчина всегда ведёт.Это танго.Просто обнимешь другого и делаешь шаг, ноздесь принято уходить после лучшего танца.Этим он говорит без слов: я мог бы остаться,но так хорошо мне не будет ни с кем, дорогая,кроме тебя.Она отвечает: знаю.И не неволю.Хлопает дверь – акцентом на сильную долюритма одна вторая.Липовый мёд
Хоть режь его, хоть ешь его ломтями —густейший зной стоит и росы тянетиз почвы.И почти кипит июль.Подпёрли липы небеса, белеявдоль старой позаброшенной аллеии от жары сомлели во хмелю,и липнет к пальцам цвет – воздушный, сладкий.Оставь меж листьев жёсткие крылатки,а венчики, их с пчёлами деля,срывай, шальным не оставляя грозам.Смешаешь с лепестками дикой розыи настоишь на мятных фитиляхратафию.Иванов день всё ближе.Не взят никем, в траве расплылся жижей,заплесневел по шляпку белый гриб.Отнимет спирт у розы, липы, мятыих сок, и цвет, и мёд.И в день девятыйглотни его, почуяв жар внутри.И нипочём теперь любое лихо.Иди: не клят, не мят и шит не лыком,бери что можешь.Отдавай что зря.Есть две недели для цветенья липы.Ты только их и помни, поеликувсё явственней дыханье ноября,когда старик свезёт на тачке ульив гараж – а пчёлы грезят об июле —зима ему оскалилась в лицо.И волосы её полощет в небеи обирает липы ветер, гневен,и им орёт на сотни голосов.Но я тяну одну и ту же ноту:вернётся день, где полны мёдом соты,и ты пчеле лепечешь: не ужаль,чтоб ангельских цветов, крылатых, белыхдуша, коснувшись, пела и горела —хоть режь меня, хоть ешь меня с ножа.Глина
Камнетёс завидует гончару:мой резец по мрамору твёрже рук,слабых рук, которыми месят глину.Что же нем и холоден мрамор тот,что граню я истово, а поёттёплым голосом свисток его соловьиный?Жажду я гармонии на века.Мрамор отшлифовывает рука:чтобы ни погрешности, ни щербинки.А у него в руках – прах. Комки.У него – безделицы, черепки,что едва домой донесёшь от рынка.Камень устоит. Всех переживёт.И граню его я за годом годяростнее, чтобы стал совершенней.И твержу себе: не напрасен труд.Пусть не вдруг, не сразу – когда умру,кто -нибудь уменье моё оценит.Вспомнит, как я правил свои резцы,мерил плиты, чтоб вознеслись дворцы,чтобы храмы высились горделиво.Только дразнит звук на чужих устах,этот свист насмешливый: к праху прах,всё одно когда-нибудь станем глиной.От неё тепло домовой печи,из неё и кровля, и кирпичи,и свистулька, сделанная с любовью.Глина оттого льнёт к простым рукам,что сулит бессмертие простакам.Мрамор окончателен.Он – надгробье.Даже если тёсанную плитуводрузят на должную высоту,то пропорций, строгости и симметриине оценит ветер, набравший в ротпраха: посвистит, да и занесётглиной труд того, кто боялся смерти.…А гончар выходит на солнцепёк.Гладят руки глину, берут в комок:и готова, точно живая, птаха.И в неё достаточно подышать,и она поёт, как поёт душа,что сильнее зависти или страха.Казнить нельзя помиловать
Известнейшая из амфиболийантичности.Окаменевший слепокслов пифии, которым верят слепо.Горячий воздух рвётся из щелив земле.Треножник над разломом.Дева,вдохнув дурмана восходящей пневмы,бормочет непонятные слова.Оракул в храме Аполлона в Дельфах.Здесь предсказанья тёмные ловя,тотчас несут их толковать поэтам.И запросто прочесть и так, и этак:двусмысленность придётся извинять.Шипит битуминозный известняки выделяет в воду этиленна глубине, где плещет ключ Кастальский.Три тысячи таких тягучих леторакула сладкоречивый тленвдыхали вдоволь.Крез утратит царство.И до него бесчисленные все:цари и Фив, и Спарты, Одиссей,изгнавший по навету Телемаха,наследника, осиротив Итаку —толпятся у треножника, дрожати вожделеют золота и славы,не замечая, что стекает ядс губ пифии, жующей листья лавра,и газ летучий – грёз её виновник.Плесни из амфоры, прошу, ещё вино мне.Того нельзя ли, этого нельзя,а скот у храма в жертву принесядвенадцатого гекатомбеонаи заучив приятные на слухзагадки, греки верили, что злузвук преградит дорогу, как Пифону.Ах нет, я вру: в Додоне сын Лаэртане понял шелест дуба в древней роще —там смерть от рук сыновних напророчилоракул: место, а не голос чей-то.Ещё оракул – собственно слова,формулировка.Правда такова,какой хотим мы, обмануться рады.И буквы на дощечках нацарапав,пройдоха-жрец всучит нам перевод.А что же до кастальских пенных води вечной болтовни про вдохновенье —всё дело, виночерпий, в этилене.Ты только погляди: кто там в летах?На склоне лет и моралист Плутархбыл удостоен жреческого санав дельфийском прорицалище, в том самом,где изначально пифия раз в годвдыхала газ и бредила.Но вотне только в день рожденья Аполлона,а ежедневно стали ждать словес,и газ весь улетучился.Исчез.Мукой ячменной жертвенник в колоннахчадил.Жрецы курили лавр вотще.Торчал пупом земли священный камень,но всё темней казался смысл речей —и ничего из них не почерпнуть.Плутарха занимало: почемуне прорицает более стихамислужительница Аполлона в Дельфах?Поэзия, мой Ганимед, как деванебрежна стала в метре и в словах.А перифразы, написал Плутарх,отёрши пот с чела, уже не в моде.Двусмысленности цели не находят,стихи никто не учит наизусть.И сладость пневмы выдохлась.Боюсь,ты сам решаешь, в чём твоя стезя:сказать нельзя.И не сказать нельзя.Феолент
Девочка в платье-матроске читает Пушкина.Не наизусть – на ощупь.За слогом слог.Великолепие водное и воздушноеслужит ей фоном: закат, но ещё светло.Белой ротонды подкова, паря над скалами,держит в объятиях тёмный гранитный знак.Водит ребенок пальцем вдоль строк, лаская их.Сквозь балюстраду хлещет голубизна.Как передать, чтобы вы это тоже видели?Ожил случайный снимок, заговорил:лестница мимо Георгиевской обители,блик по металлу хромированных перил.Словно вне времени платье-матроска детское,даль неоглядна, выгнут небесный свод.…И на уступе Пушкин стоит с Раевскими —ровно за два столетия до того.Вечность густая настолько, что можно пить её.Чайки мелькают, и ветер несёт их стон.Конь от обрыва попятился, бьёт копытами,ржёт и храпит.Приседает, крутя хвостом.Юн и порывист, ещё не записан в гении,Пушкин от груды камней не отводит взгляд,слыша рассказ: Артемида и Ифигения,тавры и смерть чужеземцев, Орест, Пилад.Позже возьмётся перечитать Овидияи с Муравьёвым-Апостолом вступит в спор…Камни стены монастырской плющом увиты,дымкой укрыта линия дальних гор.Точка на карте, в которой сошлось столь многое:греческий парус и тысячелетний крест,флаг на корме – Андрея или Георгия,флотских архангелов – символы этих мест.Всё, что ниспослано нам и сполна отпущено,ждёт лишь касания.Вот же они, азы:пальцем водить по граниту, читая Пушкинаи от усердия высунуврусскийроднойязык.
Тёмная комната
Не лайкай инстаграмные1 посты:всё пиксели.Но нет, как ни искал бы,аналоговой полной черноты,в которой можно только с красной лампой.Ах, как мы превращали негативв купаемые в ванночках спечатки…И можно было, сколько захотим,хранить былую память на сетчатке.А если слово падает, как светна бром и серебро фотобумаги,сквозь негатив туда, где света нет,чтобы явить себя в солёной влаге?Потом промывка, а за ней фиксаж —и вот он, образ, резок, не расплывчат.Так, слово обронив, знакомый нашжжёт красный свет.Печатает.Химичит.Наоборот
Чтобы прочесть это, к зеркалу поднеси.Что нам порядок, которым буквы ложатся в строки?Гладь по изнанке, переплетения трогай.Слово – из кокона. Из скорлупы. Но силстоит отчаянных вызвать его наружу.И понимать происшедшее изнутри,глядя в лицо ему – странно: покой нарушит,перекроит тебя, и на живую нитьсмечет по новой, иглою сомненья клюнув.Ходят по свету, вывернув душу, люди.А разорвётся – некому починить.Еле ухватишь ткань. И за лоскутыбудешь держаться что мочи – нема, разъята.Смотрит в тебя из текста другая ты.Вденет в иголку нить, и кладёт заплаты.А залатает, нить проведя в иглу,глянет другая ты на тебя из текста:что онемела? Слово приходит вслух,нити и лоскуты собирая вместе.Некому починить? На разрыв пиши.Вывернув душу, люди по свету бродят.Колют сомненья? Метанья твоей душии называются жизнью: скроили вродестранно, и не до покоя, когда в лицосмотрит иная сущность, обескуражив.Черпая силы, кокон (или яйцо)молча представь. И слова в глубине. Отдашь имвсё до последнего вздоха – отдашь что есть.Буквы в обратном порядке ложатся в гранки.Переплетения трогай. Гладь по изнанке.И поднеси это к зеркалу, чтобы прочесть.Рыба
Челюсти рыбы, дуги,смежны с рядами жабр.Рыбе не надо думать,как ей и чем дышать.Рыба живёт где глубже.В этот её эонвесь кислород, что нужен,в Тетисе растворён.Рыбу достало слушатьшум глубины в ушах.Рыба ползёт на сушу.Делает первый шаг.Рыбий рефлекс – зевота.Так нам сигналит мозг:предок земных животныхвзять и вдохнуть не мог.Навыку вдоха – сотни,сотни мильонов лет.Рыбе он был как зонтикили велосипед:жаждали жабры влаги.Ты, разевая рот,не понимаешь благавычленить кислородиз атмосферной смеси,произнося слова.Действуешь на рефлексе.Знай, что в тебе живарыба.Гордись удачей,толщей воздушной сжат,где говорить и значит —существовать, дыша.Иглы и шипы
На тёмный тис, на куст понтийской иглицыи можжевельник на семи ветрахиз туч, рождённых морем, снег посыплется.И те, кто причинял нам боль вчера,эндемики или пришельцы с Югаукутаны: и юкка, и ююба,которую зовут Христовы тернии.Твои, Таврида, колкие растения —акации и их сестра гледичия,щетинистые сосны, барбарис,уже обезоружены.Борисьза неприкосновенность!Но в отличиеот ежевики, буйволовой ягоды,опунции и артишока, падубане рань в ответ,а стань неуязвим,лишь холодностью отвечая им.Уроки каллиграфии
А я могу понять и ветер, и поток,и чарки по реке на пальмовые листья.А после встать к станку и поработать кистью,допив ещё глотоки повторив глоток.Хмельных дрожжей вкуси, пускай лоза не слива —иные времена, иные берега.Лишь об одном прошу: не говори красиво.Жизнь тем и дорога,как прежде, дорога,что ускользает от старательных и трезвых,но мастер тушь и кисть готовит наперёд,и держит под рукой, под настроенье врезать —а там уж как пойдёт.А там уж как пойдёт.Цвет
Наши ветви полыхнут белым или розовым,и от сладости такой – кругом голова.Пусть испытывает март поздними морозами,но сначала – завязи, а потом – листва.Просыпалась сон-трава, светом изумлённая,и весну на севера звали журавли.Даром что внезапный снег и туман просоленный:мы ветрам наперекор раньше всех цвели.С нами горлица и дрозд, с нами хлопоты у гнёзд:смел миндаль и абрикос, алыча смела.Столько жизни, столько сил – вон акацию спроси —что бутоны, что шипы прямо из ствола.А вдогонку всё дружней яблони с черешнями,мы роняем лепестки: собирай в горсти!Что бы ни было потом, помни пору вешнюю:прежде чем зазеленеть, надо отцвести.Обрезка
Лоза должна страдать под лезвием.Иначебезжизненная плеть обломится, суха.И режут виноград, пока он не заплачет,и тонок аромат весеннего дымка.Стреляет сок, шипит, пузырится на срезе,когда летит в огонь былых побегов плоть.А солнце всё смелей, и всё быстрей железо:успей, пока слеза по лозам не течёт.Иное не мертво – прихватишь по живому,и струйкой из ветвей восходит сквозь туманкипящий белый пар.Так воспаряет слово,когда горишь в огне и от восторга пьян.Всё лишнее – отсечь.Проснутся почки рядом,и будут лист и гроздь, как подоспеет срок.Терпения и сил проси у винограда,а снявши урожай, благодари за сок.Магарач
Ранит оса дозревающий виноград,винная мушка роится в кистях тяжёлых.Скоро окрепнут просоленные ветра,осень с цепи спуская.Грядёт порабронеголовых мстителей-богомолов,время купания в свете, косых тенейи захмелевших бабочек-адмиралов,позднего сбора итогов, мускатных дней,винного камня в осадке на самом дне,ножек тягучих на гнутом стекле бокала.Вот богомол на правом моём плече,он ещё юн и зелен, полупрозрачен.В солнечных пятнах, где воздух погорячей,бойся, оса, его зубчатых лап-мечей,бейся, оса, застывай в янтаре лучей.И «Магарач» истекает соком,совсем горячим.Склон
На склоне лет пусть будет виноградник,за рядом ряд стекая вниз с холмав долину, и уходит там в туманстраницей разлинованной тетради.Пусть молкнет гул досужих голосов,а море громко дышит, остывая,и в скалы бьёт вода его живая,и солнце в облака просыплет соль.Пусть будет свет, рассеянный, но яркий,и осторожным трогает тепломза бок айву, упавшую на грядки,и бражник воздух завихрит крылом.И в небе пусть круги нарежет сокол.И грозди сняты точно на Покровянтарные, и время каплет соком:густое и горячее, как кровь.Стойкость
Когда уже, кажется, лето сдано и потеряно,кровавит шиповник, и медью трясёт держи-дерево,и взмылены волны – их ветер ведёт под уздцы —в степи, среди сизой полыни, с дождём оживающей,в засаде нет-нет да ещё поджидают товарищи:колючие жёлтые бешеные огурцы.Взведённый на товсь —только тронь —он взрывается, брызжется,стреляет в упор семенами и солнечной жижицей:пригорок не взят, значит, рано сдаваться ещё.И тут же цветёт, даром что непогоды осенние,и плетью – бросок.Так упорно идёт в наступление,что вдруг и на резком ветру по щеке —горячо-горячо.Внутри
Живущий в матерьялелишь раскрывает рот —и сразу ливень жалит,и солнце тучи рвёт,распахивает руки —и тянутся уже,белея, жезлы юккииз вороха ножей.Лишь ступит в пыль степную —улитки, унизавкак бусины, вплотную,висят на стеблях трав.Всё к месту, неслучайно:когда горит закат,обугленные чайкив зрачках его летят.Не знают мер и сроковночных дерев листы.Дворов пустынных строкив ежиных запятых,ритмичный стук сандалий —вещей привычный ход.Останься в матерьяле,и он – произойдёт.Бумага
Не суй мене, господи, куды мене не просят,а когда на что сгожусь – ведомо тебе.Пятернёй за волосы – так и лезет проседь,но никак не научусь верить да терпеть.Умирать четырежды – было, знамо дело.Откачают, стало быть, здесь трудись, душа.Одесную от тебя я бы встать хотела,ну а выйдет по грехам – то тебе решать.В Херсонесе колокол безъязыкий, немый,а вдоль моря черепки, глина меж камней.Сверху чайки косяком плавают по небу,вот и мне бы в небеса, да куда же мне?Для чего-то ты меня вылепил из праха:мял и гладил, стискивал, форму придавал.Сколько дней ни отпусти – лучше петь, чем плакать,Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1