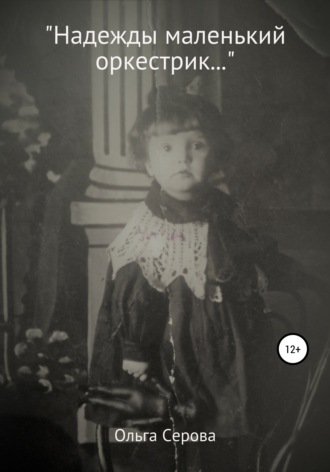
Ольга Серова
Надежды маленький оркестрик…
Всю дорогу до Могинска я бежала так, что Мишка не поспевал за мной. Это была такая радость для меня, что не могу подобрать слов, чтобы описать…
Уж не помню, в этот же день или на следующее утро мы пошли в Абдулино, к папе. Для меня все это казалось каким-то чудом, мама и Шурик так резко отличались от окружавших меня до сих пор людей – и обликом, и опрятной, «красивой», то есть непривычного вида одеждой, мама была так красива, а Шурик – в коротких штанишках, с тюбетейкой на голове – просто чудо как хорош!
Что чувствовали при этой встрече родители, мне трудно судить, но в моей душе боролись два противоречивых чувства – радостное ликование и щемящая сердце тоска: мне ни за что не хотелось расставаться с мечтой о другой, счастливой жизни с мамой и Шуриком, но тогда нужно было уезжать от отца, который так любил меня…
Расставание было тяжелым. Отец умолял меня не уезжать, не оставлять его одного и горестно плакал, может и сожалея о разводе. Спросил маму: «Что ты думаешь делать?» На что мама холодно ответила: «Я ничего не думаю, а если насчет Розы: если хочет, пусть едет, а нет – так пусть остается». Помню, меня это сильно задело и добавило тоски в сердце, но и упрямой решимости ехать тоже, хотя где-то в глубине души я понимала предательский характер своего поступка.
Наутро отец объявил, что ему нужно в Караидель и он довезет нас до Могинска, собрал все мои вещи, поснимал со стены все мои почетные грамоты, гитару, фотографии (забирай все, чтобы ничего не напоминало о тебе!), и мы поехали на длинных дрожках – отец и его жена башкирка впереди, а мы втроем со своими вещичками, сзади.
Перед самым крыльцом дома Шобуховых он остановил повозку, слегка повернув голову, убедился, что мы выгрузились, хлестнул лошадь и крикнул: «Нет у меня дочери, будь ты проклята!» и уехал.
Все это на меня произвело такое тяжелое впечатление, что я заболела и совершенно не помню, как, на чем и сколько мы добирались до Узбекистана (мама в 1937 году перебралась туда к сестре Рае, которая была замужем за Салаевым Садыком).
Ох, забыла, по пути мы заезжали в Белебей, но все это как-то не запомнилось. Помню только, что сразу же пришло письмо от папы, который просил у меня прощения, что это он выкрикнул сгоряча, что у него никого кроме меня нет, и просил вернуться («Ты уже повидалась со всеми, потом они могут снова приезжать к нам!»)
Мама, оказывается, уже была замужем. Салих был моложе ее на несколько лет, очень заботливый, хороший во всех отношениях. Сразу же поехал в Хиву и накупил для меня много всякой одежды, обуви.
Это был 1939 год, его призвали на действительную службу в армию. Уезжая, он оставил нам огромное количество разных припасов (бочку масла, муку, рис и другие продукты, даже дрова, керосин и пр.), но посоветовал маме списаться с родственниками в Саратове и ехать к ним, так как, наверное, война будет. Родственники вежливо отклонили просьбу мамы (здесь плохо, сами с трудом перебиваемся). В 6-й класс я пошла в Ургенче.

Ургенч 1939 года был небольшим городишкой в 6-7 коротких улиц, дома глинобитные и каркасные (преимущественно), толщина стен которых не превышала 15-17 см. Как правило, без отопления, так как топлива там не было – вокруг пустыня, пески. Каменный уголь уже после войны стали подвозить из Сибири. Улицы немощеные, ноги утопали в толстом слое мягкой пыли. Местные жители обычно в айване (крытая холодная веранда) делали небольшое углубление, где тлел кизяк. Сверху ставился низенький стол, который накрывался большим стеганым одеялом, садились всей семьей вокруг этого стола, засунув под стол ноги, и грелись, здесь же и пищу принимали, и просто отдыхали.
Русские жители обзаводились керосинками, примусами, сооружали печурки-плиты, но когда нет дров, одним кипятком комнату не нагреешь, хотя бы пищу приготовить.
В холод зимой стены насквозь промерзали и покрывались инеем, а вода в ведрах замерзала. Дома в целях экономии стройматериалов тесно лепили один к другому, по плоским крышам можно было пробежать от одного конца улицы до другого.
В самом Хорезме – это истинный оазис в пустыне – было развито садоводство, на рынке изобилие винограда, инжира, дынь. Но основная культура – хлопок.
В Ургенче я закончила 6й класс и пошла в 7й, но к осени 1940 года мама решила переселиться на станцию Урсатьевская (поселок Хаваст), уехала, оставив меня у тетки до зимних каникул.
С отцом переписывались, его вновь перевели на станцию Иглино, там у них с башкиркой родилась дочь Софья, но рано умерла. Он по-прежнему звал меня к себе, просил не ревновать ни к жене, ни к Софье, уверял, что у него я одна. Но как я могла поехать, жили -перебивались кое-как, дело шло к войне.
В декабре я поехала «вдогонку» к маме. Железной дороги там еще не было, сообщение только авиа. Погода стояла нелетная, пуржило, и я 15 дней просидела на «аэровокзале» (громко сказано) вместе с группой бухгалтеров, которые ехали с отчетом в Ташкент. Были там две женщины, которые меня опекали. На голове у меня вместо платка или шапки было полотенце. Дверь плотно не закрывалась, было очень холодно…
Самолетом – до Чарджоу, а там нужно было садиться на поезд. Среди бухгалтеров оказался один, у которого, как выяснилось, дочка училась в параллельном со мной классе. Он заботливо проводил меня до станции, купил билет, булочку и молоко и упросил дежурного по вокзалу впустить меня в дежурную комнату, и мне строго наказали никуда ни с кем не ходить (мне в жизни часто везло на хороших людей). Утром я села на поезд и поехала на станцию Урсатьевская, прибыла ночью, вокзал пустой, в зале ожидания я сидела одна, так как никто меня не встречал. Сидела долго, но под утро пришли мама с подругой Гулсум-апа, это она уговорила маму на всякий случай посмотреть: может, приехала. Ведь я 15 дней сидела в аэропорту в Ургенче, а телеграмму дать не догадалась, наверное, тетка тоже не побеспокоилась: она и не знала, когда я улетела.
В Урсатьевской школа относилась к железной дороге, поэтому, наверное, была с физико-математическим уклоном. Учеба мне давалась легко, а большинству в классе физика «не давалась». Сан Саныч, учитель по физике, очень похожий на Дарвина, выставив 5-6 двоек, вызывал меня к доске, чтобы я «дала по мозгам этим лодырям», стыдил мальчишек, что девчонка им «нос утерла».
Когда мама, не найдя работу, уехала с подругой в Чимкент, а меня оставила до конца учебы у моей школьной подружки, Сан Саныч несколько раз уговаривал меня, чтобы я согласилась на удочерение, говоря: «У тебя светлая голова, я тебя в Москву после школы пошлю – в институт». Своих детей у них не было, и они уже воспитывали другую девочку.
Закончив 7 классов в Урсатьевской, я поездом поехала в Чимкент.
Началась война, жить становилось все труднее и труднее. Осень была очень дождливой, и у нас в квартире отвалился кусок потолка. С жильем устроиться в то время в Чимкенте было очень трудно, мама подыскала «комнату» (фактически, сарай) с намерением подремонтировать и благоустроить. Но началась массовая «мобилизация» на сбор хлопка (мама работала охранником в Доме Культуры, и ее направили «до праздника 7 ноября», но продержали до января. Вернее, она оттуда сбежала, и ее потом долго таскали в прокуратуру.)
Мы с Шуриком остались одни, без запасов еды, без топлива, в этом сарае. Собирали лошадиные и ослиные «яблоки» для кизяка, на кладбище рыли какие-то торчащие из земли коренья. Там меня укусило в ногу какое-то ползучее насекомое, натертая на руке мозоль прорвалась, туда попала инфекция от кизяка, раздуло правую руку и левую ногу, я не могла ходить в школу, по ночам все ныло, да и Шурик толкался – спали из-за холода вместе, накидав на себя все, что было. Есть было нечего, ходила в какой-то кишлак выменять на что-нибудь соль – дали одну небольшую свеклу…


