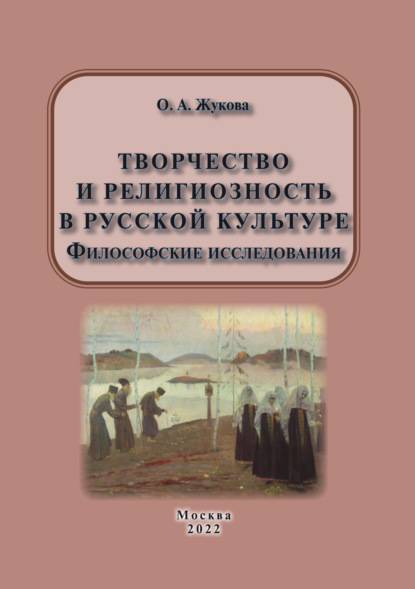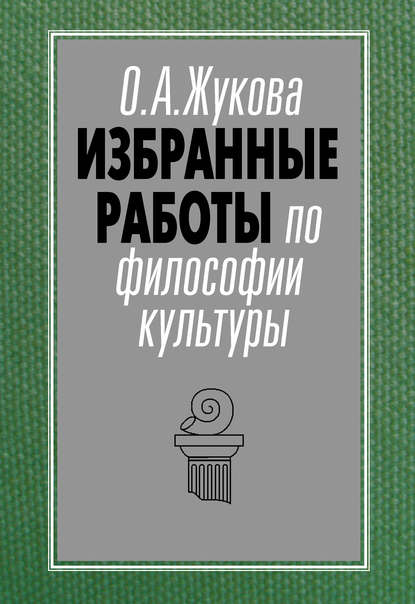Полная версия:
Ольга Анатольевна Жукова Философия русской культуры. Метафизическая перспектива человека и истории
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Ольга Жукова
Философия русской культуры. Метафизическая перспектива человека и истории
© Жукова О. А., 2017
* * *Введение. Философский дискурс о русской культуре
Современная российская философия не представляет собой единого интеллектуального поля. Ее тематические контуры и методологические подходы продолжают изменяться после отказа от политико-идеологического доминирования «диамата» и «истмата» в социо-гуманитарном знании. Отчетливее всего этот процесс виден в социальной и политической философии, философии культуры и религии, философской антропологии, эстетике. Ценностно-ориентированные области философского знания, которые были наиболее подвержены доктринизации и идеологической цензуре, сегодня находятся в стадии активной трансформации теоретических оснований, тезауруса и методологического инструментария. Они демонстрируют запрос на тематическое обновление и пересмотр концептуального ядра теорий – на смену эпистемологической парадигмы.
В этом процессе формирования новых российских философских школ и направлений просматривается значимая тенденция «перезапуска» социально-исторической эпистемы. Она характеризует процесс встраивания российской философии, с ее сложившимися подходами и проблемными полями исследований, в контекст западной интеллектуальной культуры. В области философско-исторических и философско-антропологических исследований данную тенденцию можно было бы обозначить как процесс культурологизации философского знания, обогащения его концептами культуры, личности и творчества, что отвечает общей для современной российской философии задаче концептуальной и методологической перезагрузки.
В случае с исследованиями, посвященными истории русской мысли и философии русской культуры, возникают дополнительные трудности, преодоление которых определяет направленность и тональность многих работ. Это и разрыв в русской традиции философствования, ставший трагическим следствием революции 1917 года, когда философская элита страны оказалась за пределами исторической родины, и идеологическое выхолащивание свободной критической мысли в марксистский период советской философии. Для характеристики текущего состояния исследований в области русской мысли во внимание также должны быть приняты столь необходимые усилия по восстановлению преемственности в развитии линии русской философии и возвращению огромного корпуса трудов отечественных мыслителей. Отрадно отметить, что издательская и комментаторская работа над отечественным философским наследием, надолго выведенным из научного и культурного оборота, продолжается. Все это составляет отдельный сюжет, добавляющий определенные смыслы исследованиям в предметной области истории русской мысли и философии русской культуры.
Специально стоит упомянуть о двух идейно связанных между собою сериях коллективных трудов «Философия России второй половины XX века» и «Философия России первой половины XX века», внесших серьезный вклад в изучение истории отечественной философии в последнее десятилетие[1]. Характерно, что серия «Философия России первой половины XX века» возникла уже как продолжение исследований о творчестве советских-российских философов второй половины XX века, т. е. в логике исторической ретроспекции – от недавней современности к прошлому, к философской классике. Разобраться с наследием русской мысли, создать, своего рода, историко-философский канон имен и концепций оказалось задачей крайне трудной. Благодаря этим сериям философский ландшафт российских исследований по русской мысли значительно обогатился. В то же время, во многом эта беспрецедентная по замыслу масштабная работа авторских коллективов стала катализатором ситуации, обозначившей ситуацию острой борьбы за русское наследство – борьбы, которая возникает в публичном пространстве, далеко не свободном от идеологических страстей и политической конъюнктуры. Маркером этой ситуации может служить дискуссия в журнале «Вопросы философии», возникшая по поводу статьи «о мифах и истинах» в русской философии С. Н. Корсакова[2], оппонентами которого выступили известные российские авторы – В. А. Бажанов, А. А. Ермичев, А. П. Козырев, В. Ф. Филатов, С. С. Хору ж и й.
Помимо указанных выше проблем в освоении и трансляции русской философской традиции, возникающих сегодня и инспирированных событиями политической истории России в XX веке, существенным вопросом в самоопределении русской мысли является нерешенный вопрос ее статуса в многосложной цельности европейской традиции философии. Это ставит и другой вопрос, который был эксплицирован участниками дискуссии в «Вопросах философии», – о специфике отечественной философии, о том, что можно понимать под концептами «русская философия», «философия русской культуры», «философия русской истории», так же, как и вопрос о самой возможности существования и развития «русского проекта» философствования в современной интеллектуальной культуре.
На самом деле данную проблематику нельзя назвать принципиально новой. Она восходит к проблеме определения исторического феномена русской культуры, ее архитектоники[3], особенностей ее культурных практик, что ярко свидетельствует о продолжении дискуссий, которые сопровождают отечественную мысль на различных этапах ее существования, – о борьбе идеологических дискурсов. Со всей отчетливостью эти вопросы были поставлены философами Серебряного века, которые произвели процедуру критического переосмысления и рецепции предшествующего исторического опыта русской культуры, ее духовно-художественного и интеллектуального наследия. Свою родословную они возводили к Ф. М. Достоевскому и Вл. С. Соловьеву. Выступая продолжателями духовных поисков мыслителей XIX века, русские авторы религиозно-философского ренессанса наследовали интеллектуальный багаж оригинальных идей своих метафизически обеспокоенных учителей, сделав огромный вклад в развитие метафизики, гносеологии, этики, эстетики, общественной мысли. В начале нового столетья философы и публицисты продолжили идейную борьбу вокруг вопроса о специфике исторического бытия России, совершенного ей цивилизационного выбора, о путях ее политического развития и социального устройства, о духовных основаниях русской культуры и особенностях творческого опыта человека русской культуры, начатую предшественниками и поляризованную в споре «западников» и «почвенников». Чтобы подчеркнуть важность этой линии русской мысли, в которой усиливается онтологическая проблематика христианского учения и получает активное развитие религиозная топика философии культуры и истории, сошлемся на историографа русской философии Н. О. Лосского. «Чтобы оценить значительность этого движения, – пишет Лосский, – достаточно указать на следующие имена: Вл. Соловьев, кн. С. Н. Трубецкой, кн. Е. Н. Трубецкой, о. П. Флоренский, о. С. Булгаков, Н. Бердяев, Мережковский, Франк, Карсавин, Вышеславцев, Арсеньев, о. В. Зеньковский, Кобылинский-Эллис»[4]. К этой плеяде относится и творчество самого Лосского, сторонника интуитивизма, автора философской концепции идеал-реализма в духе общих положений русского онтологизма.
Определяющим для дискурса о русской культуре в работах философов, чувствительных к метафизической проблематике, стала отмечаемая ими смысловая взаимосвязь религиозного, художественного и социально-политического опыта в культурной истории России. Представители религиозно-философского ренессанса в своей рецепции русской культуры выступили сторонниками соловьевского идеала синтеза религиозного и философского мировоззрения, и, указывая на характерный недискурсивный характер «русской мудрости» (С. Л. Франк), настаивали на имманентности христианской этической и эстетической проблематики содержанию русской литературы и искусства в ее древнерусской православной и классической секулярной версии культуры. В таком измерении поэт и философ, художник и композитор обретали черты мыслителя, мудреца, пророка и проповедника, свидетельствующего об Истине, Добре и Красоте – о Совершенном. Достоевский, по выражению Бердяева, был детоводителем ко Христу, Пушкин, согласно Франку, воплощал идеал познания – «умудренного неведения». Творческая философия Пушкина, который для русских мыслителей оставался средоточием русской культуры, как таковой, воплощением ее онтологической и эстетической сущности, содержала интуицию единства Бога, природы, культуры и человека в высших прозрениях поэтического гения. Истинно русский духовный склад Пушкина как художника-творца и мудреца проявлялся, по Франку, в трех основных тенеденциях. Таковы «склонность к трагическому жизнеощущению, религиозное восприятие красоты и художественного творчества и стремление к тайной, скрытой от людей духовной умудренности»[5]. В терминологии Франка, этот способ синтеза непосредственной интуиции бытия в формах культурного опосредствования – поэтического творчества – открывал путь живого знания. Саму эту возможность постижения тайны жизни, ее верховного смысла, по мнению мыслителей, давала русская культура, ее религи озный дух и национальные святыни. Поэтому художественные феномены и творческие прецеденты в истории культуры встраиваются религиозно ориентированными авторами в систему онтологии культуры и творчества, метафизики истории и христианской антропологии. Иными словами, русская культура становится мощным элементом «теоретического осмысления мировоззренческого онтологизма»[6].
Опыт философского постижения культуры, проделанный мыслителями, принадлежащими к интеллектуальной культуре Серебряного века, содержит в себе еще одно открытие, которое и сегодня не потеряло своей эвристической ценности. Обозначенные ими религиозно-философские подходы к осмыслению феноменов культуры и истории вполне могут вписаться в современный тренд конструирования новых концептуальных моделей философского знания в области метафизики, онтогносеологической теории, обновления топики и методологии культурфилософских и историсофских исследований. При этом методологические трудности в такого рода философских штудиях не могут быть до конца устранены. В этом контексте заметим, что религиозная метафизика культуры и истории как предмет одновременно философский и богословский не имеет завершенного вида и находится, скорее, на стадии формирования эпистемологической парадигмы, выработки концептуальных оснований и философского тезауруса. Данная проблема активно обсуждается в последнее десятилетие, как российскими, так и западными интеллектуалами. В частности, она была многосторонне рассмотрена на международной конференции, посвященной поиску универсальных оснований нау чных и богословских эпистемологических парадигм[7]. Особое внимание было уделено проблемам «связи и различии эпистемологиче ских парадигм богословия и науки» (К. Уорд), «обособлении и взаимопроникновении дискурсов» (В. Розин), специфике двух способов «выражения сущности форм человеческой духовности» (В. Порус), «категории достоверности в научном и богословском дискурсах» (В. Даренский)[8].
Очевидно, что допуск религиозно-метафизической составляющей в описание и интерпретацию историко-культурного процесса органичен для конфессионально ориентированных исследований. Примером здесь могут служить труды по философии культуры и истории Р. Барта, Ж. Маритена, К. Ранера, П. Тиллиха, Э. Трёльча, ставшие классикой XX века. Религиозный дискурс о культуре продолжают также современные европейские исследователи. Так, тематизацию отечественной культурфилософии и историсофии о. Томаш Шпидлик связывает с традицией русской мысли, пронизанной православными интуициями. Автор посвящает несколько глав своей книги о русской идее религиозной метафизике культуры и истории, обращаясь к анализу концепций В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубецкого и других религиозно ориентированных мыслителей[9].
Однако метафизическая проблематика культуры и истории при всей фундированности европейской и русской традиции не является центральным направлением современных философских исследований. В то же время, можно увидеть, что идет большая авторская работа по поиску новых жанров философского дискурса, которая отвечает характеру работы и творческим задачам, поставленными прежде русскими мыслителями. Работая с материалом художественной, религиозной и политической культуры России, с творческими и историческими прецедентами русской жизни, они показали, что философские смыслы могут быть обнаружены и репрезентированы не только в академических трактатах и системных трудах, но в художествен ных произведениях, оригинальной эссеистике, философской публицистике, мемуаристике, насыщенной историсофской проблематикой и культурфилософскими сюжетами. Вслед за русскими философами обращение к многообразным формам духовных, художественных, интеллектуальных практик в качестве предмета культурфилософской рефлексии позволяет репрезентировать содержание русской культуры непосредственно через интеллектуальный опыт философов, писателей, художников, композиторов, и что особенно важно, реконструировать условия и характер зарождения философской или художественной идеи. В нашем случае техника культурфилософской наррации в некоторых рассматриваемых сюжетах будет принимать вид рассказа о том, что и как становится событием жизни человека и затем находит отражение в творчестве в виде мысли, идеи, образа, становясь уже событием культуры.
Данный подход к истории культуры как к культурному преданию, к культурному мифу, создаваемому личностью, с нашей точки зрения, позволяет осуществить философскую рефлексию и тематизировать философскую проблематику, извлекаемую из событий жизни и сублимируемых в тексты – произведения культуры. Индивидуализация и философская персонификация культурной истории, которая происходит в подобных типах исследования, опирается на устоявшуюся философскую традицию. Ее яркий представитель Эрнст Трёльч признает за личностью великий культуротворческий потенциал, способный изменять ментальное поле культуры, наращивать новые смыслы и через индивидуальный вектор жизнетворчества выстраивать интеллектуальное пространство культуры и истории. «Эта оригинальность личности обладает такой силой преобразующего и определяющего влияния на целое, которая не есть просто нечто данное и воспринимается нами прежде всего в ее поражающей и не поддающейся предвидению продуктивности», – формулирует Трёльч[10]. Творческий элемент в культу ре – не единственная, но важная, по мнению Трёльча, тема для философа культурной истории. Она заключается в известной философско-исторической проблеме «личность и история», кульминируя в теме великих или выдающихся личностей. «“Великие люди”, или “выдающиеся личности”, как их называют, составляют здесь, правда, точки концентрации и вершины, но совершаемый ими творческий синтез проникает в качестве образующей силы в институты и духовные силы, которые они создали непосредственно или опосредствованно»[11].
Именно философская тематизация истории как истории прецедентов творчества, т. е. культурная история, позволяет совершить эпистемологический и методологический поворот в области наук о культуре и подобрать теоретический инструментарий к главному предмету исследований – культуре, где будет возрастать внимание к персональному, личностному, экзистирующему, к сопряженному с тайной, с Иным, где события личные и общественные имеют значение в эсхатологической и даже апокалиптической перспективе. По мнению теоретика гуманитарной культуры А. В. Михайлова, подобная наука о духе, как она была задумана и сконструирована Вильгельмом Дильтеем, все еще остается заданием для современной философии. Философский проект Дильтея – это путь к синтезу философии, психологии, эстетики, истории литературы и искусства, истории мысли. Можно согласиться с Михайловым, что новая наука о культуре в духе Дильтея показывает важную интенцию, до сих пор еще не реализованную. Она выражает себя как тенденция «к синтезу историко-культурного знания, тяги к складыванию такой философски осмысляемой историко-культурной науки, которая являла бы культурную жизнь эпохи во всем многообразии ее связей»[12]. Собственно, опыт философского постижения русской культуры, данный русскими мыслителями в понимании единства Бога и человека, обнаруживаемом в мире природы и культуры, в творческом акте познающего духа, и является одной из возможных версий в построении «новоосмысленной» философии культуры. И здесь пути европейской и русской мысли к поиску реальности культуры и человека, содержащих в себе опыт трансцендентного, сближаются.
В этом контексте наука о культуре как интегральная область гуманитаристики становится философски постигающим и понимающим знанием о культурной истории, которая специальными способами и познавательными инструментами добывает свой предмет из толщи незнания и реконструирует опыт жизни человека в культуре. Возникает вопрос: как современный исследователь русской культуры, который по определению, должен быть историком, добывает факт, и каким образом он становится новым философским знанием? Историк, пишет Эрнст Кассирер, имеет дело не с миром физических объектов, а с символическим универсумом – миром символов[13]. Кассирер призывает: «Мы должны научиться прежде всего понимать эти символы. Любой ис торический факт, как бы он ни был прост с виду, должен прежде всего определяться и пониматься в рамках этого предварительного анализа символов»[14].
Возможна ли подобная материализация духа прошлого, к которому Кассирер просит относиться не как к окаменевшим фактам, а как к живым формам, чтобы «собрать вместе все эти disjecta membra, разрозненные члены тела прошлого, синтезировать и отлить их в новую форму»?[15] Очевидно, такое извлечение прошлого в новое знание о нем может быть осуществлено при соблюдении определенных исследовательских процедур и подходов. Наиболее продуктивными, развиваемые в современном гуманитарном знании подходами, могут быть названы философско-культурологический, герменевтический и структурно-семиотический подходы, которые применяются нами в данной работе.
Философско-культурологический подход в рамках нашего исследования выступает как междисциплинарный метод изучения культурных феноменов[16]. Он дает возможность прослеживать внутренние связи между сменяющими или отстоящими друг от друга на значительном временном отрезке культурными эпохами, усматривая сходство и различие форм духовного, интеллектуального и художественного опыта на различных этапах культурной истории. Кроме того, он позволяет соотносить в социально-культурном контексте повседневности религиозную, философскую, научную и эстетическую картины мира, выявляя их историческую преемственность. Философско-культурологический подход акцентирует момент индивидуальности и неповторимости культурного творчества человека, что позволяет выделить специфические черты в различные периоды исторического развития национальной и мировой культуры.
Личностный фактор, работающий в культурной истории, смещает угол зрения от генерализирующего к индивидуализирующему, но при этом он стремится к особого рода объективности. Такого рода объективность Кассирер терминологически определил как «объективный антропоморфизм»: «В истории человек всегда возвращается к самому себе – он пытается вспомнить и актуализировать целостность своего прошлого опыта. Но ведь историческое Я – не только индивидуальное Я: оно антропоморфно, но не эгоцентрично. Не боясь парадокса, можно сказать, что история стремится к “объективному антропоморфизму”»[17]. В случае с религиозным сознанием высшей объективностью выступает логика судьбы – Божьего промысла – того трансцендирующего горизонта, в котором человек мыслит свою смерть и онтологическое бессмертие в духе. В своей итоговой книге «Опыт эсхатологической метафизики», посвящая раздел истории и эсхатологии, Н. А. Бердяев пишет:
«В человеке есть вечное начало, и этим определяется его судьба. Но человек не есть неизменная величина в истории. Человек изменяется в истории, переживает новый опыт, усложняется, развертывается /…/. За феноменами истории, – продолжает свои метафизические размышления Бердяев, – действуют ноуменальные реальности, и потому только возможна свобода и возможно развитие. За историей скрыта метаистория, и нет абсолютной изоляции плана исторического от плана метаисторического. За происходящим в историческом времени скрыто происходящее в экзистенциальном времени. Явление Христа-Освободителя есть явление метаисторическое, и оно произошло во времени экзистенциальном. Но в этом центральном мессианском явлении метаистория прорывается в историю, хотя и воспринимается ею в замутненной среде»[18].
Не только метаистория совершает прорыв в историю, но и культура совершает прорыв за пределы своих границ, трансцедируя за пределы времени. Именно этот факт открывается христианскому сознанию русских «эсхатологических метафизиков», «софиологов», «конкретных идеалистов», «идеал-реалистов», «онтологических монистов».
Специально заметим, что в нашей работе, главным образом, будет рассматриваться линия преемственности русской культуры, связанная с опытом непосредственного восприятия Бога, целостности природы, мира культуры и человека, а также рецепция этой традиции, где данная особенность русской культуры, ее ценностно-смысловая и практикоориентированная религиозность становится самостоятельной и доминантной темой философской рефлексии. Русские мыслители, осуществившие рецепцию данного типа, переводят культурфилософскую проблематику в плоскость метафизики истории и культуры, прочитывая за событиями жизни и истории их транцендентный смысл, что, по выражению Бердяева, свидетельствует о том, как «метаистория прорывается в историю».
В исследовании произведений русской культуры и понимающих их текстов продуктивным оказывается герменевтический подход. В нашей работе он позволяет рассматривать текст культуры с позиции его современников. Согласно Х. Г. Гадамеру, данный способ понимания и толкования не только не означает забвение своего собственного места в истории, но, наоборот, предполагает необходимость мыслить собственную позицию в ее историко-культурной специфичности. Отметим, что герменевтический подход релевантен не только в ситуации интерпретации конкретных произведений, но и в анализе творческого пути автора культуры, что делает возможным рассматривать биографию творца как приобретающую смысл духовного пути – жизни как произведения, оцениваемого в присутствии высшего идеала творчества. На эту герменевтическую интенцию, связывающую произведение и жизнь автора, указывает А. В. Михайлов, анализируя методологию книги Фридриха Гундольфа о Гете (1916). Вслед за Гундольфом он выделяет тему творца – автора: «Жизнь творца неотделима от его творений, неразделима с ними: жизнь, или, иначе, переживание с самого начала погружено в творчество, руководствуется тем же инстинктом и направляется той же силой, что и творчество»[19].
Близок нашей философской методологии и структурно-семиотический подход, который трактует культуру как семиотизированный универсум. Это позволяет увидеть историю как метатекст, обладающий своей смысловой структурой и контекстуальными связями. Поскольку философ культуры имеет дело не только с фактом культурной истории, но и с артефактом культуры – текстом, то между прошлым и настоящим стоит авторское высказывание, слово, сказанное со смыслом, имеющее статус произведения культуры. По словам Ю. М. Лотмана, «между событием “как оно произошло” и историком стоит текст, и это коренным образом меняет научную ситуацию. Текст всегда кем-то и с какой-то целью создан, событие предстает в нем в за шифрованном виде. Историку предстоит, прежде всего, выступить в роли дешифровщика. Факт для него не исходная точка, а результат трудных усилий. Он сам создает факты, стремясь извлечь из текста внетекстовую реальность, из рассказа о событии – событие»[20].
Усилие по добыванию факта, как правило, сопряжено с отбором. В нашем исследовании произведена селекция фактов (артефактов, персоналий, тем), с той целью, чтобы тематическая и сюжетная избирательность в описании культурной реальности не препятствовала созданию целостной картины понимания русской культуры, что собственно и представляет собой опыт извлечение философского смысла и приращения знания, верифицируемого процедурами теоретического анализа. Подчеркнем: факт важен не только сам по себе, но как причина, приводящая к некоторому социальному и личностно-творческому результату. По справедливому замечанию Кассирера, «факт становится исторически значимым, если он чреват последствиями»[21]. Об этом напоминает историк и теоретик литературы, разработчик семиотической концепции культуры Юрий Лотман. По его словам, находясь в рамках семиотического подхода, невозможно удовлетвориться формулой Ранке: «восстановить прошлое (“wie es eigentlich gewesen”) – как оно произошло на самом деле. Понятие “восстановить прошлое” подразумевает выяснение фак тов и установление связей между ними…Важную сторону предварительной работы историка составляет умение чтения документа, способность понимать его исторический смысл, опираясь на текстологические навыки и интуицию исследователя»[22].