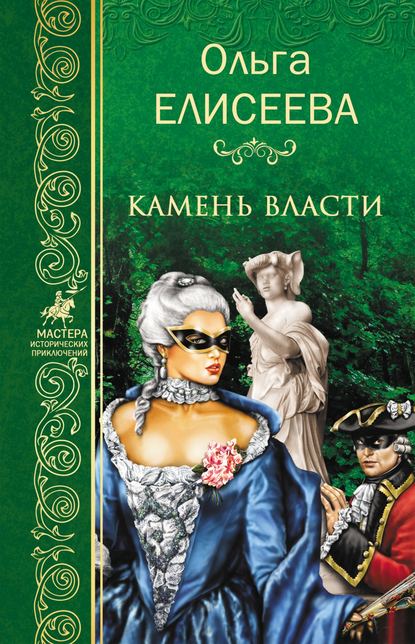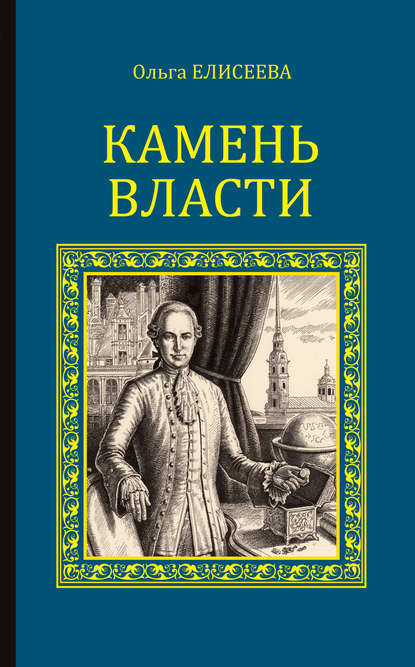Полная версия:
Ольга Игоревна Елисеева Дашкова
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Ольга Игоревна Елисеева
Дашкова
© Елисеева О.И., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015
Сайт издательства www.veche.ru
Пролог
Лжец добровольно лишается доверенности и почтения людского, и права никогда на оные не имеет.
Е.Р. Дашкова. Отрывок из записной книжки. 1790 г.Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.
А.С. Пушкин. Герой. 1830 г.Комплиментов не будет. Личность Дашковой слишком масштабна, чтобы простое славословие в ее адрес помогло разобраться в сложившейся ситуации. Говоря о Екатерине Романовне, современники и последующие биографы сходятся, пожалуй, только в одном – это была женщина, достойная удивления. Всё остальное: характер, ум, душевные качества, вклад в историю и культуру России – вызывает споры.
Недаром гостившая у княгини в начале XIX в. молодая ирландка Кэтрин Уилмот (Вильмот) замечала: «Она настолько оригинальна и сложна, что результатом [характеристики] явится описание клубка противоречий человеческой натуры… Рассмотрение отдельных черт не даст никакого представления об их совокупности… Княгиня переменчива, как погода, в душе ее собраны воедино волнующиеся океаны и разрушительные огнедышащие вулканы, дикие пустыни и скалы… Ты можешь считать Европу раем, живя в Италии и полагая остальные страны подобными ей»{1}.
Кэтрин имела в виду, что к ним с сестрой Мартой хозяйка поворачивается самой ласковой, самой приятной стороной и гостьям живется в московском дворце Дашковой припеваючи. Они словно в Италии. Но где-то есть и Сибирь…
Хрестоматиен отзыв А.Н. Герцена, публикатора «Записок» Екатерины Романовны: «Какая женщина! Какое сильное, богатое существование!»{2} Но были и другие характеристики, среди которых «бой-баба с замашками принципессы», «скупяга»{3} (так угощала бывшую подругу императрица) – еще не самая худшая. А.С. Пушкин, например, считал, что Дашкова стала президентом Академии наук «через постель» государыни{4}.
Но больше всех порезвились дипломаты. Для них княгиня была и героиней, и интриганкой, и любовницей графа Панина, и его дочерью, и участницей многочисленных заговоров против Екатерины II, и рукой, готовой вонзить кинжал в сердце Петра III. В противовес этой легенде возникла другая – жертва опалы и неверной дружбы сильных мира сего, женщина выше своего времени, верная супруга, нежная, просвещенная мать, мужественная заговорщица, бескорыстная патриотка, рачительная хозяйка, победившая долги и нищету.
Из столкновения этих двух взглядов родилась вся историография, посвященная княгине. Но читатель вправе спросить, где же сама Екатерина Романовна? В отзывах недоброжелательных критиков? Или в мемуарах, написанных как самооправдание? Не закрывают ли обе маски живое лицо? Ведь давно замечено, что истина находится отнюдь не посередине между версиями…
Глава 1. Одиночество
Девочка не знала, что ее хотят осчастливить, увозя в дом столичной родни, и горько плакала, расставаясь с бабушкой. Еще горше плакала «добрая старуха», из заботливых рук которой вырывали внучку – последнюю радость, кровиночку от умершей дочери. Для нее самой с этой минуты жизнь должна была кончиться.
Возок тронулся. Сгорбленная фигурка осталась за поворотом дороги. Четырехлетняя малютка осиротела во второй раз.
Больше Екатерина Романовна никогда не видела свою бабку с материнской стороны. Ее ждали богатство, знатность, близость ко двору. Из темного захолустья дитя везли к свету – в самый европейский город России – Петербург.
Там было все. Здесь ничего. И тем не менее…
Пройдет много лет, и пожилая княгиня Дашкова будет со слезой в голосе вспоминать тот давний февральский день. Не смерть матери, которой она не помнила. А разлуку с единственным человеком, которому маленькая Катя была дороже жизни, который ее действительно любил.
В «Записках» наша героиня скупа: «Я имела несчастье потерять свою мать на втором году… Во время этого события я находилась у своей бабушки в одной из ее богатых деревень. С трудом она расставалась со мной, когда я была по четвертому году, чтоб отдать меня на воспитание в менее ласковые руки. Впрочем, мой дядя-канцлер вырвал меня из теплых объятий этой доброй старухи и стал воспитывать вместе со своей единственной дочерью»{5}.
Что стоит за строкой? Здесь и запоздалое признание в любви – ведь в четыре года не скажешь бабушке искренних, правильных слов – и скрытый упрек высокопоставленной родне, которая, конечно, позаботится о сироте, окружит ее роскошью, но не сердечным теплом. Сановный дядя слишком занят, тетя – легкомысленна. И оба увлечены собой. А потому, на первых порах жизни, простая, безграмотная старуха с нежным сердцем может дать ребенку больше всех сокровищ мира.
Мы обратили внимание на этот эпизод потому, что он кажется нехарактерным для «Записок» Дашковой – выламывается из них. Сколько раз читатель будет неприятно поражен высокомерными пассажами, в которых мемуаристка подчеркнет свою знатность, аристократическое происхождение, древность рода, семейную близость с августейшей фамилией.
«Императрица Елизавета… держала меня у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Петр III. Оказанной мне императрицей чести я была обязана не столько ее родству с моим дядей, канцлером, женатым на двоюродной сестре государыни, сколько ее дружбе с моей матерью, которая с величайшей готовностью, деликатностью, скажу даже – великодушием снабжала императрицу деньгами в бытность ее великой княгиней, в царствование императрицы Анны, когда она была очень стеснена в средствах».
При этом мемуаристка «забыла» упомянуть имя матери, поскольку имелось сомнение: не из купцов ли та? Зато на первый план вышел род отца. «Не буду говорить о моей фамилии; ее старинное происхождение и выдающиеся заслуги моих предков так прославили имя графов Воронцовых, что им могли бы гордиться даже люди, гораздо более меня придающие значение знатности рода»{6}.
«Не буду говорить, Катилина, что ты вор, изменник и плут», как писал Цицерон, чьи речи против политического врага Дашкова, без сомнения, читала.
Беда в том, что особой знатностью до середины XVIII в. Воронцовы не отличались. Аристократией с выслуженным, а не родовым титулом они стали только со времен Елизаветы Петровны. В XVI столетии это была старинная дворянская семья с крепкими корнями, числившаяся, как тогда говорили, «по московскому списку»{7}. При Иване Грозном, ее представители получали высокие чины: окольничего и боярина. Во время Ливонской войны упоминался воевода Семен Воронцов. Однако уже в первой четверти XVII в. отпрыски Воронцовых служили то стряпчими, то стрелецкими полковниками, и к началу XVIII в. род, как тогда говорили, захудал. Илларион Гаврилович – отец будущего канцлера – занимал чин стольника и, имея шестерых наследников, владел только двумя сотнями душ{8}. Своего сына он пристроил пажом к царевне Елизавете, но двор «веселой Елисавет» при строгой Анне Иоанновне был беден, а саму будущую императрицу считали незаконнорожденной. Так что служить ей большой выгоды не было. Все изменилось после переворота 1741 г. В ту роковую ночь камер-юнкер Михаил Воронцов стоял на запятках саней своей повелительницы. После коронации он стал камергером, генерал-поручиком, получил звезду Св. Александра Невского, а в 1744 г. графское достоинство. Началось стремительное восхождение семьи по золотым ступеням. Вспоминается знаменитое Пушкинское замечание о «древних родах», которые восходят «от Петра и Елизаветы», при этом демонстрируя «спесь герцога Монморанси, первого христианского барона»{9}. Именно это качество порой проявляла Екатерина Романовна.
Принадлежность к семейству Воронцовых – один из главных жизненных козырей княгини. Не случайно в «Записках» столичные аристократы заслоняют остальную родню. Ведь в прошлом главной героини все должно быть безупречно. С первых строк Екатерина Романовна упрямо лепила идеальный образ. И здесь высокое происхождение вместе с блестящим образованием станут залогами будущего права княгини вершить судьбу Отечества. Малейшая червоточина – и древо нельзя будет признать добрым. Его плоды станут горчить.
А потому помощь матери юной цесаревне Елизавете – достойный предмет для рассказа. А вот имя может быть опущено.
То же произойдет и с титулом. Дядя Дашковой стал графом в 1744 г. Отец же – только в 1760 г. Поэтому дочери Романа Илларионовича в первые годы жизни при дворе не имели права называться «графинями», но в угоду сильной родне их так именовали. Наша героиня раньше выйдет замуж и сделается княгиней, чем ее батюшка – графом. Тем не менее в письме к сыну Павлу по поводу его тайной женитьбы она скажет: «Когда ваш отец собирался жениться на графине Екатерине Воронцовой, он поехал в Москву испросить разрешение на то своей матери»{10}. Таким образом, Екатерина Романовна задним числом припишет себе графский титул, считая его как бы неотъемлемым свойством рода.
Она будет гордиться чисто семейной близостью с августейшей фамилией. Эта черта ярко проявилась в ее ссоре с фаворитом Екатерины II – А.Д. Ланским. Молодой человек упрекнул княгиню за то, что в редактируемых Академией наук «Санкт-Петербургских ведомостях» после имени императрицы упомянуто только имя Екатерины Романовны. И получил гневную отповедь: «Милостивый государь, как ни велика честь обедать с государыней, но она меня не удивляет, так как с тех пор, как я вышла из младенческих лет, я ею пользовалась. Покойная императрица Елизавета… бывала у нас в доме каждую неделю, и я часто обедала у нее на коленях, а когда я могла сидеть на стуле, то обедала рядом с ней. Следовательно, я вряд ли стала бы печатать в газетах о преимуществе, к которому я привыкла с детства и которое мне принадлежит по праву рождения»{11}.
Камер-фурьерский журнал – официальный источник, фиксировавший внешнюю жизнь императрицы день за днем, час за часом – показал, что о «каждой неделе» речь не шла. За 12 лет, с 1747 по 1759 год, когда Екатерина Воронцова воспитывалась в доме дяди, Елизавета Петровна посещала своего вельможу 16 раз: чуть больше раза в год. Имя девушки за столом не названо{12}.
Позднее, в «Записках», княгиня специально оговорит, что после возвращения из-за границы в 1782 г. и до отставки в 1794 г. она дважды в неделю обедала у Екатерины II. И вновь Камер-фурьерский журнал покажет иную картину: Дашкова бывала во дворце только по воскресеньям{13}.
Однако упорство, с которым княгиня настаивала на том, что «мой куверт всегда будет накрыт за этим столом», уже само по себе показательно. Она не забудет записать, что в итальянской опере закрытая ложа императрицы, «находилась рядом с нашей». Подобные сведения, старательно собранные и переданные читателю, представлялись нашей героине необычайно важными – приподнимавшими ее над обыденной жизнью, вырывавшими из толпы у подножия трона, ставившими рядом с монархом, превращавшими в наперсницу. Ими пожертвовать она не могла. Приведенные примеры свидетельствуют, что Екатерина Романовна обладала не только развитым честолюбием, но и заметным тщеславием.
И вдруг такая острая боль от разлуки с бабушкой – простой, незнатной старухой. Выходит, тепло и любовь, которые та могла дать сироте, были в глазах княгини более важными и более нужными, чем роскошь, утонченное воспитание и честь обедать на коленях у императрицы Елизаветы.
«Источник жгучих огорчений»
Екатерина Романовна родилась 17 марта 1743 г. Позднее она станет убавлять себе год и заявлять, будто появилась на свет в 1744-м. Этому не стоит удивляться. Многие ее современники путались с точной датой рождения, твердо зная только число и день недели, у Дашковой – четверг.
Сказалась и французская мода называть примерный возраст. Барон А.С. Строганов писал в 1758 г. о своей невесте Анне Михайловне Воронцовой, двоюродной сестре нашей героини: «Что же касается до той, которую я люблю, то ей 14 или 15 лет и ко всем качествам ея ума и красоты нужно присоединить еще и прекрасное воспитание»{14}. Точно также и Екатерина Романовна готова была утверждать, что в момент знакомства с будущим мужем ей исполнилось четырнадцать или пятнадцать лет. Тут не было злого умысла. Она просто не знала точно.
Туманом недоговоренностей был покрыт и другой вопрос. Официальным отцом ребенка считался Роман Илларионович (Ларионович, как писали в то время) Воронцов, которому его супруга Марфа Ивановна, урожденная Сурмина, уже подарила троих детей: Александра, Марию, Елизавету – а через год подарит младшего сына Семена. Дочь Екатерина была четвертой. Супруг Марфы Ивановны «отличался разгульностью»{15}, а за ней самой ухаживал молодой дипломат Никита Иванович Панин. Его-то злые языки и называли настоящим отцом ребенка.
Таким образом, тень, лежавшая на младенце, с колыбели определяла его судьбу. Когда Марфа Ивановна скончалась[1], Роман Илларионович не затребовал сироту домой и не отправил к брату, как других дочерей, в которых был уверен. Малышку оставили у бабушки Федосьи Артемьевны – как бы подчеркивая, что других родных за ней пока не признают. Лишь через два года Екатерину все-таки забрали в Петербург, и то по настоянию дяди, а не по желанию отца.
Последний жил в свое удовольствие. «Мой отец, граф Роман, младший брат канцлера, был молод, любил жизнь, вследствие чего мало занимался нами, своими детьми, и был очень рад, когда мой дядя… взялся за мое воспитание»{16}. Растратив значительную долю драгоценностей покойной супруги на любовниц, Роман Илларионович, наконец, успокоился с английской содержанкой Элизабет Брокет, которую теперь величали Елизаветой Денисьевной[2].
Более основательный Михаил Илларионович заботился о детях двоюродного брата, как мог. Свою единственную дочь Анну Михайловну и двух племянниц Марию и Елизавету он определил ко двору фрейлинами. Но младшая Екатерина не удостоилась этой чести. Возможно, ее обошли фрейлинским шифром по той же причине, по которой прежде оставили у бабушки. Не здесь ли корни болезненного честолюбия, в котором часто упрекали княгиню? Ведь первая рана оставляет глубокий след. Того обостренного внимания, которое Екатерина Романовна уделяла своему положению рядом с августейшими особами? Того искреннего гнева, который княгиня испытывала при малейшей, даже мнимой, попытке отодвинуть ее в сторону, обойти в наградах, не оценить заслуг, не заплатить за преданность?
«Невинные» впечатления детства порой куда сильнее царапают душу, чем дальнейшие горести, пришедшие к уже закаленному и очерствевшему человеку. Девушку посчитали неудобным определить ко двору. В Камер-фурьерских журналах времен Елизаветы Петровны нет упоминаний о Дашковой, хотя страницы пестрят именами ее сестер, кузины, тетки Анны Карловны и, конечно, дяди вице-канцлера. Несколько раз встретится отец – 3 марта 1748 г. он будет награжден орденом Св. Анны, а 25 декабря 1755 г. станет генерал-поручиком{17}.
Старший брат княгини Александр Романович вспоминал, как часто его возили на представления придворного театра. Вместе с другими отпрысками служивших при дворе особ императрица приглашала Александра на особые детские балы в ее апартаментах. Там танцевало от 60 до 80 мальчиков и девочек, пока родители ужинали в обществе Елизаветы Петровны{18}. Дашкова не бывала ни на спектаклях, ни на маленьких праздниках.
Особенно красноречива ситуация со свадьбами – важным придворным действом. 15 февраля 1758 г. состоялось венчание камер-юнкера Петра Бутурилина и старшей сестры нашей героини – фрейлины Марии Романовны Воронцовой. А через три дня – камер-юнкера барона Александра Строганова и фрейлины Анны Михайловны Воронцовой. «Ближней девицей» невест в обоих случаях стала Елизавета Романовна, к тому времени уже фаворитка наследника Петра Федоровича. Ее младшая сестра Екатерина ни на одном из торжеств не присутствовала{19}.
Где же она была? Дома за печкой? Такое положение, если и соответствовало действительности, то никак не годилось для мемуаров. И Екатерина Романовна заставляет императрицу часто навещать дом Михаила Илларионовича, милостиво, по-семейному, разговаривать с его младшей племянницей, а позднее соучаствовать в сватовстве князя Дашкова. То есть присваивает внимание августейшей особы, на самом деле оказываемое ее сестрам.
Имелась еще одна трещина в скорлупе золотого яичка, каким для каждого ребенка должна быть семья. Брак родителей, говоря со строго христианской точки зрения, не был вполне законным. Молодая ирландская компаньонка княгини Марта Уилмот (Вильмот) в 1808 г. записала историю, которую сама престарелая Екатерина Романовна не захотела включать в мемуары: «Госпожа Сурмина, чье состояние составляло очень большую сумму, еще девочкой была выдана замуж за князя Юрия Долгорукова. Вскоре после этого семья Долгоруковых попала в опалу, и императрица Анна [Иоанновна] приговорила князя к пожизненному изгнанию в Сибирь. Мать Сурминой… бросилась к ногам императрицы, умоляя разрешить развод дочери, получила разрешение и через несколько месяцев[3] выдала ее замуж за графа Романа Воронцова»{20}. После возвращения из ссылки в 1741 г. Долгоруковы встретились с Воронцовыми. Бывшие супруги узнали друг друга и «были чрезвычайно смущены», но ни о каком «возвращении к старому» речи уже идти не могло. Тем более что Марфа Ивановна для получения развода написала на высочайшее имя прошение, в котором заявляла несогласие с «образом мыслей» мужа{21}.
Почему такой колоритный случай не попал на страницы «Записок»? Ведь он отчасти обелял мадемуазель Сурмину, создавая между нею и аристократическим семейством Воронцовых своего рода трамплин – Роман женился не на купеческой дочке[4], а на княгине Долгорукой (Долгоруковой). Каково ее собственное происхождение, уже не столь важно – ведь и сама Елизавета Петровна не без пятнышка. В первые десятилетия после петровского царствования браки представителей разных сословий не были редкостью. Поиздержавшаяся знать женила своих отпрысков на купчихах. Да и позднее эта традиция не ушла в прошлое, а вот к разводу стали относиться куда строже. Если раньше, во времена Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, одного слова государыни было достаточно для расторжения брака, то уже Екатерина II сознательно устранялась от вмешательства в семейные дела и оставляла Синоду его неотъемлемое право судить неполадивших супругов. Позволение на развод стало крайней редкостью. С этим столкнулась двоюродная сестра Дашковой – Анна Михайловна Строганова, чей брак оказался неудачным, а дело о разводе тянулось так долго, что бедняжка успела зачахнуть.
К началу XIX в. в русском обществе уже решительно осуждали женитьбу на разведенной. Тем большему остракизму подвергся бы союз без формального церковного расторжения предыдущего брака. Вот Екатерина Романовна и промолчала. Вторичный брак в религиозных семьях вообще считался грехом, тяжесть которого ложилась на детей. Например, Наталья Борисовна Долгорукая (Долгорукова), урожденная Шереметева, дочь фельдмаршала, составляя «своеручные записки»{22}, озвучила именно такой, чисто средневековый, взгляд на свою судьбу. Ее отец Борис Петрович после смерти первой жены собирался в монастырь, а вышел от царя Петра I, держа за руку новую нареченную. За нечестье родителей должен был отстрадать их единственный ребенок, и Бог послал Наталье очень короткое счастье с любимым князем Иваном Долгоруким и долгие мытарства, бедность, вдовью долю и, наконец, успокоил в келье Флоровского монастыря в Киеве инокиней Нектарией[5].
За поколение до нашей героини даже очень образованные представители русской аристократии смотрели на себя и свое место в мире, исходя из строгих православных представлений. Осознание грехов, в том числе и грехов родителей, примиряло людей с собственными страданиями.
Но Екатерина Романовна была уже человеком Нового времени. Личностью, готовой предъявить Богу свой счет обид. Ее смирение – чувство особого рода – она не жила с ним, а долго шла к нему. Впадая то в гордыню, то в отчаяние. Дошла ли?
В «Записках» нет. Но, к счастью, после окончания рукописи Мартой Уилмот в 1804 г. (по другим данным, в 1807 г.) у Екатерины Романовны оставалась еще горсточка лет. Еще несколько последних шагов в полном одиночестве. Как бы ни загораживала героиня мемуаров реальную Дашкову, как бы ни слипалась с ней, порой становясь исследователям дороже настоящей, есть надежда, что живой человек в нравственном отношении больше персонажа воспоминаний. Все, что мы можем найти на страницах – легкие отпечатки его души.
«Ничем не обязана»
Мысль о своей зависимости от близких, видимо, причиняла княгине боль, уязвляла самолюбие. Уже после переворота 1762 г. дядя Михаил Илларионович в письмах к племянникам сетовал на неблагодарность воспитанницы. Сама Екатерина Романовна с раздражением написала брату, что «ничем не обязана» родне. И получила гневную отповедь молодого дипломата: «Вы благоразумно поступаете, желая уменьшить достоинство благодарности… Всем известны заботы дяди и тетки о вашем воспитании и об устройстве вашей судьбы»{23}.
В те времена было принято, чтобы родня, земляки, старые сослуживцы отправляли кого-то из своих многочисленных детей воспитываться в семьи столичных благодетелей. В Москву и Петербург. Там проще было найти педагогов, имелись высшие учебные заведения, молодые люди обзаводились нужными знакомствами, приискивали место будущей службы, а девушки могли кому-нибудь приглянуться.
Уже в следующем столетии А.С. Пушкин попробовал воссоздать особый психологический тип – девушки-воспитанницы. Осенью 1829 г. в отрывке «Роман в письмах» он вывел героиню Лизу: «Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно Авдотья Андреевна воспитывала меня на ровне с своею племянницею. Но в ее доме я все же была воспитанница, а ты не можешь вообразить, как много мелочных горестей неразлучны с этим званием. Многое должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня… Сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц… обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца».
Даже богатые девушки, попав на воспитание к родным, могли чувствовать себя уязвленными. Маленькой Екатерине казалось, что близкие на самом деле равнодушны к ней, несмотря на внешние проявления заботы, что искренней привязанности в них нет. «С раннего детства я жаждала любви окружающих меня людей, – писала она, – и хотела заинтересовать собой моих близких, но когда в возрасте тринадцати лет мне стало казаться, что мечта моя не осуществляется, мною овладело чувство одиночества… При первых признаках кори меня отправили в деревню, за семнадцать верст от Петербурга… Глубокая меланхолия, размышление над собой и над близкими мне людьми изменили мой живой, веселый и даже насмешливый ум… Я начала сознавать, что одиночество не всегда бывает тягостно».
Суетность родных, которые услали больного ребенка в деревню, лишь бы не лишиться права посещать двор, очевидна. Елизавета Петровна была очень мнительна: боялась покойников и при малейшем подозрении на нездоровье приказывала отсылать приближенных из резиденции. Поэтому вице-канцлер с супругой действовали в отношении племянницы строго в соответствии с «придворной грамматикой». Но, конечно, не в соответствии с христианскими добродетелями.
Упомянутая в «Записках» корь – первый рубежный момент в развитии личности мемуаристки. Недаром она настаивала, что эта «случайность» «сделала из меня ту женщину, которою я стала впоследствии». То есть читающую и размышляющую над прочитанным. Но не только. Девочка впервые по-настоящему осознала: она одна, и никому, в сущности, нет до нее дела.
Беспрерывное ночное чтение подрывало здоровье. Екатерину Романовну осаждали вопросами, не происходит ли ее болезненный вид от сердечной тайны: «Я не дала на них искреннего ответа, тем более что мне пришлось бы признаться в своей гордости, уязвленном самолюбии и раскрыть принятое мною самонадеянное решение собственными силами добиться всего»{24}.
В «Записках» болезнь и вынужденная «ссылка» в имение под Петербургом относятся к 1756 г., поскольку княгиня сама назвала свой возраст – тринадцать лет. Но есть основания сдвинуть дату на более позднее время. Дашкова писала: «Мой брат Александр уехал в Париж еще до моего возвращения в город. С его отъездом я лишилась человека, который своею нежностью мог бы залечить раны, нанесенные моему сердцу окружающим меня равнодушием».