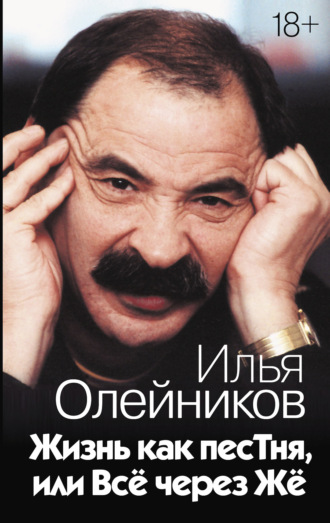
Илья Львович Олейников
Жизнь как песТня, или Всё через Жё
Глава 3
в которой я пытаюсь изобразить из себя Казанову, но ничего не получается

Поговорим о странностях любви. Влюблялся я часто и внезапно, и так же часто и внезапно это упоительное чувство покидало меня.
В первый раз это случилось со мной в пятилетнем возрасте. Моей избранницей стала Анечка. Анечка жила в соседнем дворе. Длинные ее волосы распускались до талии, а на прелестной головке сверкал пушистый белый бант. Когда Анечка, сидя в песочнице, случайно дотрагивалась до меня острым локотком, сердце мое сладко ныло. Но однажды Анечка заболела стригущим лишаем и была обрита наголо. Когда Анечка предстала передо мной в виде маленького лысого монстра, любовь моя тут же испарилась.
Прошло пятьдесят лет. Мы с Юрой поехали на гастроли в Америку. После концерта в Нью-Йорке я, зайдя в гримерную, увидел некое шарообразное создание, с трудом втиснутое в гипюровое платье, на плечи которого было наброшено слегка поеденное молью боа.
Шарообразное создание при виде меня сделало что-то вроде книксена, при этом мебель в комнате слегка затряслась.
– Илья, – жеманно пропела она. – Вы меня не узнаеце?
– Пока нет, – сказал я.
– Ну присмотрицесь повнимацельней.
– Ну присмотрелся, не узнаю.
– Ну как же вы могли меня забыць? – продолжала она курлыкать свою нежную песню. – Вы вець даже в любви мне объяснялись.
– Ну мало ли кому я объяснялся, – сказал я, совершенно не представляя, где, когда и сколько я выпил, чтобы признаться в любви этому гипюровому чудовищу.
– Но я у вас была первая! – драматически вскрикнула она. – Как это можно забыць ваще!
– Первая?! – ужаснулся я. – В каком смысле первая?
– Ну, первая, которой вы объяснились, – сказала она и потупила коровьи глазки. – Это произошло в песочнице.
– В песочнице? – И тут страшная догадка пронзила мое сознание. – Неужели Анечка?
– Ну наконец, – облегченно выдохнула внезапно вынырнувшая из прошлого Анечка. – А вы меня не узнали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, – сокрушалась она. – Как же вам не стыдно!
– Ну, э-э-э… Прошло столько времени, э-э-э… – оправдывался я непонятно по какой причине. – Вы… э-э-э… слегка изменились э-э-э, так что э-э-э вполне естественно э-э-э, что я э-э-э вас э-э-э…
И дальше я продолжал блеять что-то уж совершенно непотребное. Не дай вам бог, друзья, женщину, которую вы любили в молодости, встретить на склоне лет. Это страшно. В такие минуты приходит осознание бренности не только воспетого поэтами чувства, но и самого бытия. Я смотрел на нее и думал: «Анечка, Анечка, вот ты и перевернула последнюю страницу моей первой любви».
Ну да ладно, не будем отвлекаться.
* * *
Лет до пятнадцати я влюблялся несметное количество раз, но отношения с еще неоперившимися школьницами носили чисто платонический характер. Я ни с кем не целовался, в то время как мои школьные товарищи уже занимались этим вовсю. Однажды, валяясь на диване и томясь от безделья, я увидел в окне странную процессию. Широко шагающую впереди девушку Тому из соседнего переулка и семенящих за ней семерых моих соучеников. Отсутствие ума Тома компенсировала потрясающей грудью и длинными, как уши у спаниеля, ногами. К этому надо добавить, что она была не по годам эротична и давала кому ни попадя. Смутные неприятные подозрения проникли в мою душу, и я, выскочив на улицу в одних тапочках, завистливо спросил у замыкающего колонну Додика Альтмана:
– Вы куда?
– Томку идем на речку трахать, – по-военному жестко отозвался Додик.
– Всемером? – ахнул я.
– Всемером, – все так же, не моргнув глазом, ответил тот.
– А восьмой вам не пригодится? – жалостливо попросился я.
– Нет, – отрезал Додик, – перебор будет.
Компания удалялась. Я стоял потрясенный и одинокий.
«Ну вот, думал я, сейчас они станут мужчинами, а я когда? Да и стану ли им вообще…»
И вдруг, к моему изумлению, я увидел, как вся эта сексуальная процессия молча возвращается обратно. Причем в той же последовательности! Томка впереди, мачо – сзади. Я посмотрел на часы. Прошло пятнадцать минут. Я лихорадочно начал считать. До речки идти минуты три, не меньше. Туда-обратно – получается шесть. Итого, на любовные утехи остается кругом-бегом девять минут. Быстренько разделив девять на семь, получил, что на собственно соитие у каждого ушло минуты по полторы. Мысленно я попытался представить себе, как это могло у них получиться. Но в голове почему-то трещала одна выхваченная из закоулков памяти фраза: «Быстрые шахматы – удивительный и замечательный вид спорта».
Все это не укладывалось в моем сознании.
– Додик, – спросил я поравнявшегося со мной замыкающего колонну Альтмана. – Скажи честно, Томка не дала?
– Дала, – ответил Додик.
– Тогда как же вы все успели?
– Хорошего понемножку, – с достоинством ответил Альтман.
Вскоре мой теоретический запас в этой области стал весьма обширен. Хотелось применить полученные знания на практике. Так сказать, опробовать эту тонкую технологию на живом материале. Но случая не представлялось.
Конечно, провожая очередную влюбленность домой, я предпринимал попытки припасть к ее живительным устам. Но мои пассии были целомудренны, как ангелы, или делали вид, что целомудренны. Все до единой. В лучшем случае все заканчивалось держанием ее ладони в моей, пока наконец от долгого держания девичья ладошка не покрывалась испариной, и это служило мне сигналом, что девушку пора отпускать.
– Так чего? – спрашивал я развязно после мучительной паузы. – Я пошел?
– Иди-иди! – облегченно вздыхала милостиво отпущенная мною школьница.
Первый поцелуй случился внезапно и едва не превратил меня в импотента. Произошло это на вечеринке. Вечеринка до поры до времени носила постный и стерильный характер, пока какой-то прыщавый юноша не прокартавил:
– А не пога ли нам в бутылочку поиггать?
Предложение было принято с интересом. Когда очередь дошла до меня, бутылочный перст указал на скромно сидящую в углу хозяйку дома, весящую килограммов сто двадцать, а то и сто тридцать. Но к тому времени меня не волновало, с кем состоится мой премьерный поцелуй. Мне было важно только одно – чтобы он состоялся.
Когда закрученная мной бутылка показала на хозяйку, та стала подавать признаки беспокойства. Она начала покачиваться, нервно выламывать пальцы, поправлять волосы, пока не сказала:
– Я здесь целоваться не буду. При всех. Пошли в спальню, – и, схватив за руку, стала уволакивать меня в другую комнату.
Она делала это столь решительно, что мне стало не по себе. Я даже впал в короткий шок, а выпав из него, подумал, что, пожалуй, дело может закончиться не только поцелуем. Терять же мою так долго и тщательно оберегаемую невинность с этим самодвижущимся комодом не входило в мои планы. Я сделал попытку сопротивляться. Бесполезно. Какое уж там сопротивление с моими жалкими шестьюдесятью килограммами против ее весомых ста двадцати. Софочка (а все ее называли уменьшительно-ласково – Софочка), ворвавшись в спальню, ловким бойцовским приемом швырнула меня на кровать. Рук ее не было видно – они работали в режиме вентилятора. Вентиляторные руки одновременно расстилали постель, сбрасывали с себя платье, пытались раздеть меня и еще совершали множество других движений.
Все мои теоретические выкладки, все те знания, которые вбивали в меня участливые соученики, пошли прахом. Я был лишен Софочкой всякой инициативы. Единственное, что успел, так это укусить ее за ухо. Но совершил я этот экстремальный поступок отнюдь не из амурных побуждений, а исключительно в целях самообороны. Нечеловеческим усилием я извлек из-под Софиных окороков свое обмякшее, расплющенное тело и, застегиваясь на ходу, выскочил из спальни мимо обалдевших гостей на улицу. Ноги подкашивались, руки дрожали, к горлу подкатывала тошнота. Слишком неравной была схватка.
Через некоторое время, оправившись от Софочки, я познакомился с Валей Гусер. Фамилия полностью соответствовала ее внешности. После Софочки Валя казалась мне совершенно беззащитной. Она была романтически настроенной девушкой и обожала туристские походы и все, что с ними связано: костры, песни под гитару, немытые котелки и прочую походную фигню.
Усевшись на небольшой пригорок, впоследствии оказавшийся муравьиным гнездом, я с некоторой осторожностью взял Валину руку и стал перебирать ее хрупкие пальчики. Валя свою длань не оторвала, только кивнула томно: мол, продолжай. Я продолжил и так увлекся, что не заметил, как первый передовой отряд муравьиных гурманов аппетитно вгрызся в мою задницу. Пытаясь сбросить с себя поедающих меня тварей, я начал этой самой задницей активно елозить по гнезду. Валя приняла эти телодвижения за робкие проявления страсти.
«Потерпи, – нежно прошептала она. – Еще чуть-чуть».
Я бы, конечно, потерпел, но к этому моменту на моем заднем форпосте пировала уже целая муравьиная дивизия, а то и две. От окончательного поедания мое многострадальное мягкое место спасло только то, что стало холодать. И гражданка Гусер царским голосом предложила перенести ласки с лона природы непосредственно в спальный мешок.
В ту же ночь под шум дождя и завистливое уханье сов я, путаясь в лямках Валькиного нижнего белья, лишил себя девственности.
Ранним утром, выцарапавшись из мешка и сладко потягиваясь, Валя сказала:
– Я так счастлива. Я себя чувствую как сказочная птица Пенис, восставшая из пепла.
Пришлось констатировать, что Валя была хоть и романтичной, но малообразованной девушкой.
Должен признаться, что на моем пути часто встречались необразованные девушки. Одна, пригласив меня на белый танец, прижалась щекой к щеке и спросила блудливо:
– Броетесь?
– А как же, – в тон ответил я. – Какой же молодой человек не броется? Как утром проснусь – бритву в руки и броюсь, броюсь, броюсь… Пока все не сброю!
Но попадались и эрудитки. После того как я продемонстрировал одной из них свои выдающиеся, как мне казалось, мужские способности, она раскинулась в неге на постели и спросила:
– Милый, а кто твой любимый литературный герой?
Мне показалось, что вопрос прозвучал несколько несвоевременно.
– А твой? – спросил я, находясь в состоянии морального нокаута.
– Павка Корчагин, – ответила она, и в глазах ее засветился задорный комсомольский огонек. – Особенно когда он узкоколейку строил.
Мне стало мучительно больно… Я поднялся и молча оделся. Светлый образ Корчагина стоял перед глазами и как бы говорил мне: «Как же вам не стыдно, товарищ?! Мы там, в двадцатых, себя не щадя, вымащивали дорогу в светлое будущее, а вы в этом светлом будущем вот чем занимаетесь. Эх, товарищ, товарищ…»
Глава 4
в которой я начинаю приобщаться к искусству, а искусство сильно сопротивляется

В семнадцать лет я, по велению своего раздираемого противоречиями сердца, поступил в Кишиневский народный театр. Условия приема в сей храм художественной самодеятельности были просты. Хочешь поступать – будешь принят. Не хочешь поступать – не будешь принят.
Создателем этого уникального театрального организма являлся Александр Авдеич Мутафов. Лет ему было около семидесяти, но он об этом не знал, поскольку давно находился в маразме. Правда, с элементами просветления. Лицо Мутафова смахивало на сильно высохший помидор, из центра которого неизменно вытарчивала выкуренная до последнего миллиметра сигарета «Ляна». В народе эти сигареты называли «атомными», и действительно, когда Мутафов закуривал, невольно хотелось дать команду: «Газы!»
Еще Авдеич любил дешевый портвейн. Он называл его уважительно – «портвэйн». С таким вот почтительным употреблением буквы «э» я столкнулся еще раз. Встречался я с одной. Однажды она мне говорит:
– Кофэ хочу! – решительно так говорит.
«Ну, кофе так кофе», – подумал я и повел девушку в близлежащий общепит. Выпила она чашку, прокрутила во рту последнюю каплю, и после небольшой паузы я слышу:
– Еще хочу.
Взял вторую. Выпила.
– Еще, – говорит, – хочу.
Взял третью. Третью она пила долго и сосредоточенно, причмокивая и облизываясь. Потом вздохнула протяжно, протерла платком пропотевшее от дегустации лицо и произнесла загадочную фразу:
– Все мне говорили – «кофэ, кофэ»… Ни-че-го особенного.
* * *
Итак, Мутафов. Обычно, напившись «портвэйну», он закуривал традиционную «атомную», собирал нас в круг и начинал свою маразматическую речь.
«Значит, дело было в тридцать седьмом году. Или в двадцать седьмом? Нет, в тридцать пятом! Время непростое. Сложное, я бы сказал, время. Искусство в застое. Слышу звонок.
– Кто говорит? – спрашиваю.
– Станиславский с Немировичем! – отвечают.
– Слушаю вас обеих, – говорю.
А они мне говорят:
– Не хотите ли МХАТом поруководить?.. А то без вас беда нам».
В зависимости от количества выпитого рассказ варьировался. Например:
«Когда мы встречались с Пашей Пикассо, он мне прямо заявил:
– Да ты, Саня, с твоей внешностью да с твоими манерами стал бы на Западе звездой номер раз!»
А однажды допился до того, что увертюра звучала так:
«Дело было до войны. Только-только заключили с Германией пакт о ненападении. Звонят. Голос с немецким акцентом:
– Господин Мутафофф?
– Да, – отвечаю.
– Это из Рейхстага беспокоят. С вами хочет фюрер поговорить».
– Кто хочет? – изумились мы.
– Ну Гитлер, кто! Военный парад приглашал поставить на стадионе. Да не получилось – война помешала. А жаль… Я бы им там наворотил!
Потом закурил свою «Ляну», затянулся глубоко и, задумчиво глядя на свои пожелтевшие от никотина ногти, сказал:
– А ведь обещал войну первым не начинать… Вот и верь после этого людям!
* * *
За десять лет диктаторства в народном театре Мутафов поставил два спектакля. Первая пьеса была написана грузинским драматургом или, как теперь говорят, лицом кавказской национальности Амираном Шеваршидзе. Называлась пьеса «Девушка из Сантьяго», и в ней в легкой увлекательной форме рассказывалось о боевых буднях простой кубинской девушки, которая в течение нескольких часов нанесла американцам такой материальный ущерб, что, вздумай сегодня Фидель Кастро этот ущерб возместить, Куба осталась бы без штанов. К счастью для американцев, отважную девушку в конце спектакля зверски замучила батистовская охранка. Не сделай они этого, то и Америка наверняка осталась бы без штанов. Пьеса, безусловно, удалась автору, так как была одобрена спецкомиссией ЦК КПСС и рекомендована к исполнению. Насколько хороша вторая пьеса, сказать не могу. Это была «Бесприданница» Островского, относительно нее комиссия из ЦК никаких положительных рекомендаций не давала.
Несмотря на то что два эти опуса шли не менее десяти лет, Авдеич ежедневно репетировал отдельные сцены, пытаясь довести их до совершенства.
– Так! – победоносно орал он хриплым пропитым голосом. – Хор-рошо!.. Но уже лучше!
В такие минуты он напоминал героя Гражданской войны Григория Котовского, с ходу берущего какой-нибудь белогвардейский оплот.
Полгода я сидел в зале, наблюдая эти незабываемые уроки мастера и ожидая, когда же наконец мастер обратит на меня свой пылающий режиссерский взор. И вот – свершилось. В кубинской эпопее был выписан персонаж – священник Веласкес. Роль в реестре действующих лиц была обозначена автором так: «Священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо» – и единственное, что успевал сказать по ходу пьесы этот злополучный священник, и было это самое: «Я – священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо», – после чего его вешали. Происходило это следующим образом. Революционно настроенная девушка из Сантьяго приказывает:
– Привести сюда этого подонка, священника Веласкеса из Сьюдад-Трухильо.
С голодухи готовые на все кубинские партизаны молдавского розлива выволакивают на сцену избитое существо, облаченное в рваную черную мантию.
– Кто этот человек? – грозно вопрошает кубинская Жанна д’Арк.
– Я – священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо! – вопит избитое существо.
– Кончить негодяя! – решительно говорит сантьяженка, и партизаны охотно идут навстречу ее просьбе. Проклиная американских империалистов, они уводят священника за кулисы, и доносящийся оттуда через секунду протяжный животный крик дает понять зрителю, что и на этот раз добро победило зло.
Роль не задалась. То ли партизаны волокли меня вяло, то ли я не настроился, но, когда девушка спросила: «Кто этот человек?» – я промямлил что-то непотребное.
– Что?! – бесновался Мутафов. – Почему?! Человека ведут на виселицу, а ты бубнишь под нос, как старый ксенз на молитве.
– А при чем здесь старый ксенз? – обиделся я.
– Не надо мне шить атеизм, – продолжал бушевать Мутафов. – У меня бабушка батюшка! То есть у бабушки муж – батюшка. Правда, умер уже, вместе с бабушкой.
– При чем здесь бабушка? – огрызался я. – К вашей бабушке у меня претензий нет. У меня претензии к партизанам. Они же без всякого огонька меня волокут! Формально.
– Это мы-то волокем без огонька? – обиделись в свою очередь партизаны. – Ну пойдем! Щас с огоньком поволокем. Неформально. Тебе понравится.
Их тон не сулил мне ничего хорошего. Обидевшиеся партизаны потащили меня так, что стало ясно: будет больно. Даже очень больно. И когда мадам в очередной раз кокетливо спросила: «Кто этот человек?» – я заверещал что было мочи:
– Я – священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо! Только не бейте меня больше – я все скажу!
– Хор-рошо! – успокоился Мутафов. – Хор-рошо! Но уже лучше! Только без отсебятины.
Он ничего не понял. Это была не отсебятина. Это был крик души. Я подумал, что если партизаны позволяют себе такое на репетиции, то на спектакле они могут так разойтись, что я буду просто размазан по стенке. Во избежание избиений прямо на сцене, я покинул подмостки народного театра.
Через несколько дней прочел в вечерней газете объявление о наборе в кукольный театр учеников кукловодов с зарплатой в сорок рублей. Сумма показалась мне значительной, потому что больше рубля в моем кармане не водилось. Я явился на показ. Выбирать было не из кого, поскольку только я один и явился. Главреж окинул меня взглядом с головы до пят, словно отсматривал не кандидата в кукловоды, а проститутку в бордель. Впечатления на него я явно не произвел. Он вяло спросил:
– Рост у тебя какой?
– Сто девяносто сантиметров, – отрапортовал я.
– Высоковат. А ширма – метр семьдесят.
– Ничего! – рапортовал я. – Пригнусь.
– Ну-ну, – протянул главреж, – посмотрим. На-ка, роль почитай.
– Сразу роль? – не поверил я.
– А что делать? Людей-то нету. – Он сокрушенно развел руками, как бы давая мне возможность самому убедиться, что людей и вправду нет. И я понял, что берут меня не из-за искрометности моего таланта, а ввиду полной безысходности.
Роль, порученная мне в кукольной труппе, мало чем отличалась от Веласкеса как по количеству текста, так и по его качеству. Это была роль барсучка. Разница заключалась лишь в том, что Веласкес был религиозен от головы до пят, а барсучок, воспитанный в духе соцреализма, в лучшем случае был агностиком. Оптимистично настроенный барсучок с рюкзачком за плечами выныривал на лесную опушку, распевая песенку сомнительного, прямо скажу, содержания:
– Эй, с дороги, звери-птицы,
Волки, совы и лисицы.
Барсук в школу идет,
Барсук в школу идет.
– Ты куда, барсучок? – весело спрашивает белочка, настроенная не менее оптимистично.
– В школу иду! – еще веселее отвечает барсучок.
– А там интересно? – спрашивает белочка, на всякий случай добавив еще несколько градусов веселья.
– Оч-чень! – уже на пределе оптимизма визжит барсучок и уходит в прекрасное далёко.
Надо отдать должное моей сметливости – роль я выучил быстро. Возникло препятствие другого рода – я решительно не вписывался в ширму. Я выгибался до максимума, и от этого рука, держащая барсучка, выписывала такие кренделя, что у детей возникало убеждение: барсук идет в школу не просто выпимши, а нажравшись до самого скотского состояния. Если же я выпрямлялся, то над ширмой величаво возникал черный айсберг. А, как известно, айсберги, да еще черные, в европейских лесах нечасто появляются. Даже в сказках. Загадка разрешалась просто – это была макушка моей аккуратно подстриженной головы.
Главреж стонал, но уволить меня не мог. Артистов катастрофически не хватало. И тогда он нашел поистине соломоново решение. Он заказал у декораторов шапочку в виде пенька. Я надевал пенек на голову, и, как только барсук появлялся над ширмой, вместе с ним появлялся и пенек-голова. Барсучок вальяжно на нем (или на ней) разваливался, отбарабанивал свой текст, а уходя, как бы невзначай прихватывал с собой и пенек. Смелое решение режиссера доводило дошкольников до безумия.
Все шло хорошо, но однажды случилось непредвиденное: с белочки свалилась юбка. Белочка, все это знают, – особь женского пола и посему была одета именно в юбку. Когда вышеуказанная юбка стремительно слетела с беличьего тела, перед перепуганными детьми во всей красе предстали беличьи меховые вторичные половые признаки. Я (как барсучок) был настолько уязвлен этим бесстыдным стриптизом, что меня аж за кулисы отбросило. Белочке даже показалось, что барсук перед своим позорным бегством прошептал возмущенно:
– Что ж ты, курва, делаешь?
Но это ей, конечно, только показалось. Ничего подобного я не говорил. Я только подумал: «А на кой ляд мне сдался этот кукольный?» Тем более что меня уже все больше привлекала эстрада. Ее мишурный блеск меня слепил.
«Вот это – мое! – думал я. – Вот это – мое!»
И, в одночасье собравшись, уехал в Москву. В эстрадно-цирковое училище.


