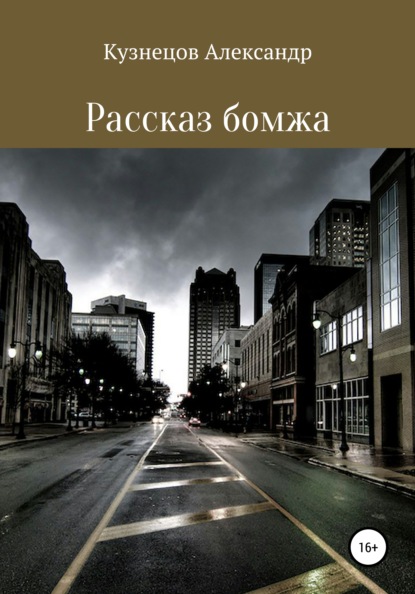Полная версия:
Александр Евгеньевич Кузнецов Судья
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Кузнецов
Судья
Солнечный летний день. Иду по тенистому парку, вдыхая безумный аромат цветущих магнолий. Светло и радостно на душе. Вблизи нет грохота проезжающих машин, людского шума, только громкий шелест цикад. Мне 18… Возраст, когда нужно принимать решения самому, в каком направлении двигаться и стоит ли двигаться вообще.
Да, забыл представиться – Дмитрий, можно просто Дима. Вчера сдал последний экзамен ЕГЭ, вроде бы успешно, через неделю будет ясно. Куда идти поступать, зачем идти, может быть в армию? Два года назад начал серьезно готовиться к поступлению в военное училище, подтянул физику и математику (хромала немного успеваемость), занимался спортом. Короче, был готов к труду и обороне. А сейчас закрались сомнения, нужно ли это мне, связывать ли свою жизнь с армией, да и родители вносят свою лепту, дескать, в мире неспокойно, пошлют на войну в первых рядах и т.д. Мама твердит, иди на медика: лучше спасать жизни, а не отнимать. Я и сам придерживаюсь такого мнения, но романтика в душе никуда не делась: всю жизнь мечтал стать разведчиком: в тылу врага, рискуя своей жизнью, спасать мир. Эдак начитался книг, насмотрелся фильмов. Романтика блин… Я внезапно понял, что жизнь намного прозаичнее, что бравый майор Вихрь только в кино, что миром правят деньги и для какого-то толстосума-генерала придется рисковать своей жизнью. От этого стало горько и гадко на душе. Хотелось взять автомат и пойти крушить гадов, направо-налево. Стало еще горше на душе. Впереди стояла лавочка с навесом, заплетенная каким-то видом роз. Я присел. В голове был сумбур от лезущих мыслей:
"Пошли всех подальше, быть тунеядцем прекрасно!"
"Нет, ты что, нужно учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил великий Ленин."
"Ха-ха, коммунисты вперед, к светлому далеко!"
"А чем был плох Советский Союз?"
"А чем тебе не нравится капиталистический строй?"
"Все люди братья…"
"Ха-ха, все бабы сестры!"
"Не перевирай, было действительно светлое время, бесплатное образование…"
"Ага, бесплатное, наплодили всяких дебилов с высшим образованием, теперь расхлебываем." .
Дима подумал, что потихоньку сходит с ума, помотал головой и вдруг откинулся назад на спинку лавочки и уснул.
– Ты сделал?– спросил чертенок.
– Ну я, и что? У него стал потихоньку просыпаться дар, нас слышать стал, еще сойдет с ума с непривычки, – сказал ангелок.
– И то верно, согласен, нужно действовать потихоньку. Слушай Арс (ангелочка звали Арсений), зачем он вам нужен, отдайте нам.
– Хрюн (чертенка звали Хрюнтазалий), не мне решать, все решили там, – и показал пальцем вверх.
– Не называй меня так, а то в бубен получишь. Хрюнтазалий – это звучит гордо.
– Гордыня-один из смертных грехов.
– Ты мне еще псалмы прочти…
– А что, я могу!
– Спасибо, не надо.
– А как мне тебя называть? Хрюнтазалий – язык сломать можно.
– Зови меня просто – Дзыга!
– А это что за зверь такой?
– Сам ты зверь! Хотя я сам не знаю, но звучит красиво.
– Дзыга, так Дзыга. Все лучше, чем Хрюнтазалий.
– Ты, что обидеть меня хочешь?– крикнул чертенок и выхватил прямо из воздуха светящиеся красным крошечные вилы.
– Стой, стой, я не хотел тебя обидеть. Просто Хрюнтазалий слишком длинно. Не кипятись, нам еще работать вместе, – и на всякий случай достал из воздуха маленький светящийся белым огнем меч.
– Ладно, ладно, прощен, – сказал чертенок и тут же прикусил язык.
– Ух ты, прощение грехов…
– Молчи… – и тут же получил, материализовавшейся из ниоткуда красной искрой прямо в пятую точку.
– Ай, все из-за тебя, начальство бдит!
– Я то тут причем, сам виноват.
– Ладно, проехали, – сказал чертенок, потирая пятую точку. – Что будем делать с аколитом?
– А давай я его себе переманю.
– Щас, у него ровно половина света и темноты, так что не выпендривайся. Вот еще капельку темноты и он мой.
– Стоять, бояться!.
– Ф-фух, опять ты, Серый! – с дрожью в голосе сказали хранители. К ним, хромая на одну ногу, с эбонитовой тростью в правой руке, двигался, сморщенный, как лимон, старик.
– Не Серый, а Судья! – и поднял их за шиворот. – Всем понятно, или более доходчиво объяснить?
– Н-н-нет, не надо!
– То-то же. Ну рассказывайте, что мы имеем.
– Неопределившийся аколит, с просыпающимся даром, – наперебой стали говорить ангелок и чертенок.
– Так, по одному. А то развели тут бардак.
– Кто его выключил?
– Я-я-я, – ответил с дрожью в голосе ангелок и тут же получил разряд искры, вылетевшей из ногтя старика в пятую точку.
– Ай, за что?
– Было бы за что, вообще убил бы. Нельзя напрямую вмешиваться в людскую жизнь.
– Так он того, слышать нас начал, боялись, что кукуха поедет.
– Ангелок, где ты нахватался таких словечек? Хотя есть от кого, – и посмотрел на чертенка.
– А что я, гы-гы, что я?
– Ох, оба получите у меня по первое число. Запомните, напрямую не вмешиваться, понятно!. Голос его стал стальным.
– Он должен сам определиться, так и передайте вашему начальству. Не сводить с него глаз, бдеть и охранять. Если что, звоните, – и ногтем в воздухе начертал голубоватым пламенем цифры телефона. Цифры еще горели, а Серого и след простыл.
– Бр-р-р, старик у меня навевает прямо-таки животный ужас!
– Ага, словечки ему не нравятся. Как бы не развеял, с него станется.
– Слушай, Дзыга, а тебе не кажется, что Серый не просто так здесь? Что он хочет забрать аколита себе?
– Думаешь приемника готовить будет?
– Ага.
– Может быть, может быть. Нужно с начальством посоветоваться.
"Догадливые какие", – подумал невидимый Серый, и щелчком пальцев стер у них из памяти свое пребывание здесь, оставив только указания: бдеть и охранять. Подошел к спящему молодому человеку. "Вот ты какой, мой пра-пра-пра, даже не знаю сколько правнук. Да и силушка зарождается, будь здоров. Нужно тебе охранника повесить, мало ли, тщедушные хранители не справятся", – с пальца Серого закрутился невидимый вихрь и вошел в солнечное сплетение. "Так-то лучше", – исчез, как и появился. Хранители почувствовали применение силы, лихорадочно закрутили головами, но ничего подозрительного не увидели.
В нашем мире присутствуют различные силы: светлые (ангелы, херувимы, боевые архангелы и т.д.), темные силы (демоны, бесы, черти и др.), есть природные силы (ведьмы, ведьмаки, навки, водяные, лешие и т.д.), силы хаоса (черные) и серые (нейтральные, судьи, инквизиторы).
Как везде в байках говориться о борьбе сил добра и зла, но это не совсем так. Как бы сказать, силы света и тьмы противоречат друг другу, у них вечное соперничество за обладание человеческими душами, но и в то же время дополняют друг друга. Нет такого человека, который бы полностью принадлежал свету или тьме. У каждого есть как светлая, так и тёмная сторона души. Вот поэтому, с ними постоянно присутствуют хранители как с одной, так и с другой стороны. Силы природы: потомственные ведьмы, выбрали путь единения с природой, духи леса, воды, воздуха и других стихий. Силы хаоса совершенно черные, они могут только разрушать. С ними борются все остальные. Ну и естественно нейтральные силы – серые, которые приглядывают за всеми, являются судьями. Обладают огромной силой, неподвластной ни одним, ни другим, не принимают ничью сторону, следят за договорами, за различными нарушениями Свода Законов Материи. Могут привлечь к ответственности любого провинившегося, сил достаточно. От их наказания еще никто не уходил: для этого есть инквизиторы – существа-ищейки, уйти практически невозможно, хотя бывали особо прыткие…
Арс и Дзыга по очереди побывали у своего начальства и как положено, получили нагоняй, что подопечный еще не в их рядах. Вернулись расстроенные: Арсений с фингалом под глазом (херувим Виторий расстарался – непосредственное начальство); Дзыга обхохатывался над внешним видом ангелка, потом сам исчез. Через пять минут появился с распухшим пятачком и без одного рога. Пришла очередь смеяться ангелку, но он не стал этого делать, только сочувственно посмотрел на чертенка.
– Что? Блин, начальство лютует. Да пошли они все.
Но тут они оба почувствовали что-то неладное.
– Буди аколита! – сказал чертенок, доставая вилы. Впереди на тропинке сгущалась тьма. Ангелок присмотрелся:
– Боже правый! Помоги нам. Это же…Это…
Да, это чувыдра – порождение хаоса. Нужно быстрей сваливать!
– Может помощь запросить?
– Не успеем, придется биться самим. Буди быстрее!
Чувыдра – создание сил хаоса. Чернее самой черноты, она похожа на осьминога, резкими движениями перемещается в пространстве. Если присосется к человеку, все, пиши, пропало. Человек быстро угасает, никакие доктора не спасут. Только вмешательство сил среднего звена (светлых иди темных, без разницы) может спасти человека от неминуемой гибели.
Арс с перепуга вцепился в волосы Димы, что тот аж подскочил.
– Что? Где? Где я? Ты кто?
– Тихо, тихо, без резких движений. Я – Арсений, это – Хрюнтазалий! Мы твои хранители!
Видя, что у молодого человека стали мутнеть глаза, Арс влепил ему звонкую оплеуху.
– Да очнись ты, прости Господи! Объясняться будем потом. Сейчас тебе срочно нужно убегать, а мы с Дзыгой тебя прикроем! Вот блин, поздно…
Чувыдра приблизилась на довольно близкое расстояние, и ее заметил опешивший от оплеухи Дмитрий.
– А это что за хрень? Что вообще происходит?
– Беги! – крикнул Дзыга и направил вилы на существо. С кончиков вил вырвалось ярко красное пламя и ударило по Чувыдре. Существо пронзительно заверещало, что Дима прикрыл уши, но назад не отступило и готовилось к прыжку. Тут в бой вступил ангелок. Из его меча вырвался ярко золотой свет и ударил в черноту. Визг, рев, какое-то хлюпанье и чавканье. Существо закрутилось на месте, разбрызгивая каплями черноту вокруг себя. Куда попадали капли, трава, листья, да и сама земля съёживалась и превращалась в прах. Свет и пламя хранителей стали потихоньку иссякать, не причиняя большого урона чувыдре. От напряжения на лицах хранителей выступил пот. Существо стало разбухать и превратилось в шар. От него отделился поменьше черный шарик и поплыл в сторону хранителей, невзирая на их усилия. Шарик с громким хлопком лопнул, и ударной волной отшвырнуло хранителей в сторону. Только благодаря светлому и темному кокону, окутавшему их, остались целы, хотя и недееспособны – сил не осталось.
Чувыдра застыла в паре метров от Дмитрия. С поверхности черного шара стало отрастать щупальце и медленно двинулось к молодому человеку. Но тут произошло что-то невероятное. Дима согнулся, как от невыносимой боли, потом распрямился, и из его груди в существо ударила яркая сине-фиолетовая молния. Чувыдра перестала существовать, только черный пепел оседал на пожухлую траву.
– Ни фига ж себе, – в унисон сказали очухавшиеся Арс и Дзыга. – Что это было?
Месяц пролетел незаметно, в суете. ЕГЭ сдал не плохо, но на бюджет в некоторые вузы не проходил. Подал документы, как сейчас принято, в пять высших учебных заведений, по заверению родителей: вполне неплохо. Быть инженером или юристом ему не хотелось, ну а там как повезет. Да еще и хранители не смолкали:
– Дима, учиться нужно, осваивать новые горизонты, познавать гранит науки…
– Арс, не нуди! Дима умный, сам выберет дорогу, да и для этого не обязательно учиться. Вот, например, зашел в магазин, украл чего-нибуть – в тюрьму. А там знаешь какие университеты…
– Дзыга, что ты такое говоришь. Какая тюрьма, ты ему жизнь испортить хочешь?
– Почему сразу испортить? Украсть тоже уметь нужно, для этого и есть тюремные университеты, а там профессора, не чета вашим. Вышел, украл, тюрьма, вышел, украл, тюрьма, романтика.
– Так, хватит болтать уже. Сам разберусь.
– Кстати, у нас встреча.
– Что за встреча?
– Серый, то есть Судья, хотел с тобой пообщаться.
– Зачем?
– Этого он нам не говорил. Отказ не принимается, с этим строго
– Ну привет, Дима.
– Добрый день.
– Хранители тебе уже сказали, что я хотел с тобой встретиться, и как меня зовут?
– Да, Вас зовут С…Судья, извините имя отчества не знаю.
– Культурный. Это хорошо. А зовут меня Вольгант Евграфович, дворянин в пятом поколении. По стечению обстоятельств, чему я несказанно рад, являюсь твоим родственником по материнской линии.
– Ого!
– Вот тебе и ого…Ладно, это опустим. За месяц ты не перешёл ни на одну сторону…
– А что, обязательно должен был перейти, может я и не хочу!
– С характером… Как я в молодости. Понимаешь Дима, ты должен выбрать одну из сторон…
– Я разве кому-то что-то должен?
– Не перебивай!
– Да я и не перебиваю!
– В лягушку превращу!
– Спасибо, не надо. Я как-нибудь так…
– Помолчи немного, балабол, – Серый усмехнулся. – Раз ты не выбрал ни одну из сторон, я предлагаю тебе стать Судьей.
– То есть стать таким, как Вы?
– Можно просто на ты, например дедушка. У меня скажем так не самая плохая работа.
– Да… Ментом не приходило в голову стать.
– Почему сразу ментом… это скорее всего по людским меркам и прокурор, и адвокат, и судья в одном флаконе.
– Круто, а если я не захочу?
– У тебя есть время подумать. Два дня. Или придётся выбирать одну из сторон.
– А если я не захочу? Если я например захочу остаться обычным человеком?
Серый покачал головой:
– К сожалению, у нас, людей, обладающих Даром, выхода другого нет. Я в молодости тоже не хотел выбирать, но…
– Такова c’est la vie…
– Что-то типа этого. Так что решай.
– Хорошо, я подумаю.
«Эх, нелегкая это работа, из болота тащить бегемота» думал я, размышляя над своим будущим. А почему бы и нет», утвердился я в своём решении, сидя на диване в своей комнате.
– И это верное решение, – сказал Серый, материализовавшись из ни от куда. – Нас, Судей, очень мало, а-бы кого не приглашаем. Ты по своим психологическим и магическим параметрам идеально подходишь для этой должности, а мне пора собираться на покой.
– То есть вы хотите сказать, что я займу Вашу должность?
– Ну не сразу, – засмеялся дедушка, сначала нужно долго и упорно учиться.
– Опять учиться, а просто щёлкнув пальцами, как вы нельзя?
– От чего же, можно! Но перед этим долго и упорно учиться – засмеялся он, чем привёл меня в легкое уныние. – Да не переживай так, поедешь в Москву, в университет, у меня старинный друг там преподаёт, думаю скучать не придётся.
Москва златоглавая, Москва прекрасная, и в тоже время грязная и ужасная… Конечно центральные улицы вычищены, вылизаны за довольно хорошую зарплату дворниками из ближнего Зарубежья (когда узнал, сколько они зарабатывают, захотелось стать дворником, шучу конечно… Но с другой стороны в центральной России о такой зарплате можно только мечтать). В подворотнях валялись кучи мусора, стаи голодных псов копались в отходах людского бытия. Здесь был совершенно другой мир, без мишуры, без переливчатых огней центра, без начищенных ботинок…
Университет им. Баумана (в студенческой среде – Бауманка), восхищает своей строгой красотой и величественностью. Альма-матер многих выдающихся ученых и инженеров, кладезь современной науки, он величественно возвышался над стоявшем в ступоре Дмитрием. «Здесь мне придётся учиться?» с восхищением думал он. «Мама дорогая, какой он большой».
– Да, не маленький! Это ещё верхушка айсберга, вы молодой человек ещё побываете на нижних этажах, – сказал сухонький старичок, появившийся как бы из ниоткуда.
– Ой, я задумался!
– Ничего, ничего. Это же прекрасно, когда современная молодежь умеет думать. Меня зовут Виктор Алексеевич, я буду у тебя преподавать алхимию. Мой близкий друг попросил тебя встретить
– Алхимию? Разве сохранилась ещё эта древняя наука.
– Молодой человек! Ты будешь изучать такие дисциплины, о которых современный обыватель даже не слышал. А теперь следуй за мной, нужно тебя устроить, показать все.
– Дим, оно тебе надо? Закопать свою молодость под стенами этого громадного здания, – тихо сказал на ухо Дзыга.
– Это не просто здание, это кладезь науки, не слушай его, делай что предначертано, – также тихо на другое ухо сказал Арс.
– Кем это предначертано? Кто предначертал? Тьфу, еле выговорил.
– Как кем? Судьбой конечно!
– Не мети пургу Арс, Судьба-женщина не предсказуемая, куда захочет, туда и повернётся.
– А я все-таки считаю, что судьба каждого записана на скрижалях бытия.
– А ты видел эти скрижали?
– Нет, не видел, но сути своей это не меняет.
– Веселые у тебя хранители, – сказал Виктор Алексеевич и внимательно посмотрел на Дмитрия.
– Ой…
– Ой… попеременно сказали хранители.
Виктор Алексеевич отвернулся.
– Ты видел его взгляд?
– Да, будто выжигает изнутри. Даже у судья не такой колючий, брр…
Мы зашли в центральный холл. Внутренний интерьер представляет слияние дореволюционного, советского и современного стиля. Высокие потолки, арки, длинные коридоры, аудитории, люстры, фонари и везде портреты выдающихся выпускников. Дима крутил головой в разные стороны.
– Молодой человек, нам сюда, на здание потом насмотришься, – подвёл к закрытой двери со сканером сетчатки глаза.
– Ого, современные технологии…
– Дима, ты что забыл, где находишься. Это же Бауманка, здесь технический прогресс на каждом шагу. Прибор отсканировал сетчатку глаза Виктора Алексеевича, внутри что то зажужжало и дверь приоткрылась. – Прошу, проходите молодой человек.
За дверью была винтовая лестница вниз. Учитель алхимии первым начал спускаться, я за ним. Спустившись, мы очутились в огромном помещении, в конце которого висел на всю стену экран. Возле него стояла небольшая группа студентов, а преподаватель указывал им на экран, тихо рассказывая какую-то тему. По краям помещения располагались рабочие места студентов, стоящие казалось в хаотическом порядке.
– Это, чтобы не списывали, – на ухо сказал Дзыга.
– Видел? Анти магическое покрытие стен, – тихо шепнул Арс.
– Твои хранители правы, стены покрыты анти магическим материалом, под названием «циаскон», который препятствует как утечке магической энергии, так и проникновению. Кафедра называется банально – «светлое и темное». Здесь будешь познавать науки как светлой, так и темной магии. Пойдём, я тебя со всеми познакомлю.
Зал был метров пятьдесят в длину и метров двадцать в ширину. Пока шли, Дима рассматривал рабочие места студентов. На столах стоял неизменный монитор компьютера, реторты, штативы, а также другие неизвестные ему приборы. Они подошли к концу зала, где шла лекция.
– Всем добрый день! – сказал Виктор Алексеевич. – Хочу представить вам новенького. Зовут Дмитрий, фамилия Скалеев, он будет учиться с вами, прошу любить и жаловать. Это, – указывая на преподавателя средних лет с ухоженными усами и испанской бородкой, – Идар Асветини, преподаватель общей магии. Тот кивнул головой, улыбаясь темными глазами.
– Виктор Алексеевич, спасибо за представление, с остальными я познакомлю сам.
– Я откланиваюсь, дела, дела, дела.
– Значит вас зовут Дмитрий. Рядом с вами молодой хулиган с зализанными волосами – Алексей Копылов – темный; дальше выглядывает из-за спины Алексея – домовой Селантий.
Он вышел из-за спины, кивнул головой. Домовых я никогда не видел и теперь смотрел на него во все глаза. Это был карликового роста пушистый (светло-серая шерсть покрывала практически все его тело, кроме лица и рук) человечек с задорной хитрой улыбкой.
– Че так смотришь, домовых не видел, дырку протрешь!
Студенты и преподаватель засмеялись.
– Не, не видел. Извини.
– Ну, тогда ладно, смотри, – и начал поворачиваться то одним боком, то другим. – Только не влюбись, я натурал.
Смех раздался ещё громче.
– Рядом с нашим натуралом, Василина Бондаренко, природная ведьма.
– Аккуратно, полянка (родом из Полесья) может зачаровать, полкафедры уже влюблены.
– Ах ты маленький натурал! Никого я не зачаровывала, я учиться сюда пришла, а не зачаровывать, не пойми кого, – сказала, покраснев, девушка.
– Я уже понял, что не в твоём вкусе, вот побреюсь, тогда держись – со смехом сказал балагур-домовой.
Девушка действительно была хороша собой той природной красотой, которую уже не встретишь в наших городах. Ярко зелёные глаза, на зарумянившемся личике, дополняла русая, до пояса коса с руку толщиной. Веснушки на курносом носике…
– Все, по-моему новенький попал, – засмеялся домовой, а за ним остальные студенты, что привело в смущение не только ведьмочку, но и меня.
– Так, все, посмеялись и хватит, разрядил неловкую ситуацию преподаватель. – Дальше, Виктор Кларксон, староста группы, неопределившийся; Елена Капустина и Мерлин Глэйва – темные; Игорь Кваша, Сергей Федотов – светлые; Фитус Грант – чёрное вуду; Глафира – наяда; Семён Брзовски – оборотень; пара вампиров – Мирко и Стефан; молодой херувим – Златан и итальянец-скарабут (как я потом узнал скарабут – меняющий личину) – Клаудио Скарини. – Так, ребята, на сегодня занятия окончены. Староста, покажи новенькому комнату, где он будет жить, ну и введи в курс дела. Свободны.
Виктор Кларксон пожал Диме руку.
– Пойдём, все тебе покажу. Они вышли через дверь из аудитории в длинный коридор. По бокам коридора было множество дверей.
– Это лаборатория для выращивания, клонирования живых организмов; это аудитория точных наук: астрономия, навигация, математика и т.д.; это экспериментальный зал, здесь будешь оттачивать магию; это спортзал, ну там всякие турники, беговые дорожки, железо; это фитнес-центр с бассейном и сауной, прикольно после занятий попариться, у нас в Швеции такой русской бани нет.
– А ты сам из Швеции?
– Ну да, из деревеньки, рядом со столицей. А вот аудитория алхимии, Виктор Алексеевич преподаёт, строгий мужик; это травоведение и магии природы, там аудитория темных, там светлые, а там начинаются комнаты студиозов, столовая и кабинеты преподов. Вот и твоя комната, номер 13, ты не суеверный?
– Да вроде бы нет.
– А зря! Шучу, конечно, проходи – и открыл пластиковой картой дверь, – потом настроишь под себя.
Комната была небольшая, кровать, стол, шкаф.
– Что, не хоромы, на общей магии покажут, как расширять пространство, сделаешь какая понравиться. Так, а где Челемундрик? А, вот и он.
Виктор достал из-за шкафа маленькое пушистое создание, похожее на хомяка, с огромными глазами.
– Это Челемундрик – магическое создание, выведенное студентами в лаборатории для помощи в быту, незаменимый помощник. В шкафу несколько видов формы, Челемундрик подгонит по фигуре. Ну, в принципе все, остальное по ходу учебы. Ах да, браслет-навигатор, чтобы знал куда идти. Через полчаса обед, сигнал услышишь, гоблины кормят вкусно. А я побежал. Встретимся.
Из-за шкафа высунулась мохнатая голова с огромными глазами.
– Не бойся меня, выходи. Челемундрик осторожно выбрался из-за шкафа. Дима внимательно рассматривал маленькое существо. Да, глаза были огромные по сравнению с остальным телом, желто-коричневые с вертикальными зрачками, как у кошки. Все тело покрывал короткий коричневый мех с каким-то серебристым отливом на конце, маленькие практически человеческие ручки и ножки, и ушки с кисточками на концах. Челемундрик смотрел на Диму немного испуганно. – Ты меня не бойся. Я – Дима, теперь мы будем жить в одной комнате.
– Хозяин Дима.
– Какой я тебе хозяин, просто Дима, – возмутился я. Челемундрик испуганно прижал уши.
– Дима…Хозяин…Дима. Просто Дима.
– Да, да, просто Дима. А тебя как зовут?
– У меня нет имени, просто Дима
– Повтори, Дима, без просто. А без имени никак нельзя…-А давай его назовём – Бальтазар! Что, заучит красиво. – тихо шепнул на ухо Дзыга.
– Нет, лучше Святогор! – не остался в долгу ангелок.
Челемундрик внимательно слушал и мне показалось и видел хранителей.
– Интересное существо, произведение чистой нейтральной магии, – сказал Арс.
– А давай ты у нас будешь Пушистик! – сказал Дима.
– Хозяин дал мне имя! Хозяин Дима дал мне имя! – аж подпрыгнул на месте Челемундрик.
– Ну сколько тебе говорить – Дима.
– Диимаа…
– Мама, роди меня обратно! Тебе не нравиться имя? Так придумаем другое.
– Мне очень нравится, хозяин…Дима.
– На том и порешили. А сейчас разложим вещи.
Пушистик с быстротой молнии развесил, разложил, поставил вещи и разные принадлежности в идеальном порядке и сел, глядя на Диму огромными глазами.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.