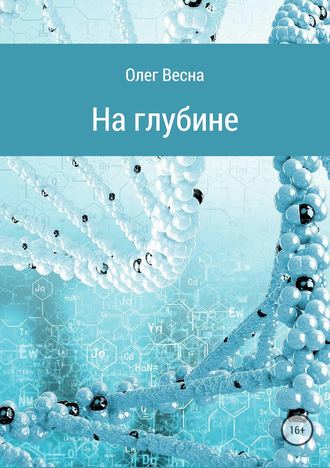
Олег Весна
На глубине
– Все мы атеисты, – произнес Энтони, не обращаясь к кому бы то ни было, – пока не сталкиваемся с тем, что не объясняется разумом и наукой. А чудо? Откуда берется и чем научно объясняется чудо? Разве не религия есть способ принятия чуда? Религия появляется там и тогда, где и когда чудо не получается объяснить по-другому. Возьмем удачу. Что это – случайность или закономерность? Почему-то кто-то удачлив, а иной то и дело влипает в неприятности?
Тони снова глубоко затянулся. Я украдкой бросил взгляд на Уилла, безмолвно вопрошая, к чему ведет этот странный тип, но мой друг лишь едва заметно пожал плечами, отведя взгляд в сторону, говоря всем видом – общайтесь и наслаждайтесь.
– Мы видим лишь результат действия космических законов, – продолжал Грэйдвелл, – но не сами законы. В силу своего слабого развития и малой осведомленности мы не способны отличить случайность от закономерности. Если есть законы, по которым существует мир, то кто их придумывает? Быть может, этот вот внеконфессиональный Бог, Бог-математик?
Энтони смотрел на меня, не отрываясь, удерживая трубку в руке. Я понимал, что сейчас он старался поймать отголоски изменений в моем запахе, которые подсказали бы ему ответ без слов. Мне совершенно не хотелось углубляться в пустой спор на религиозные темы.
– Когда-то к божественному участию относили молнии с громом и смену дня и ночи, – тем не менее, напомнил я. – А сейчас за такие размышления быстро причислят к религиозным фанатикам. Я за то, чтобы не выносить поспешных суждений о причинах того или иного события, пока ему не будет найдено объяснение, описываемое математическими формулами, ведь именно в них и через них раскрываются тайны вселенной. Телеология уже давно подчинена математике.
– Математика начинается с аксиом и постулатов, – парировал Грэйдвелл. – С допущений. Евклида через две тысячи лет опровергает Лобачевский, Ньютона и Галилея – Эйнштейн со Шрёдингером. Ни одна из написанных формул не составляет первоистины, но работает лишь в рамках определенных допущений. Наука, какая-нибудь физика, может смотреть на остывший вулкан, наблюдать его каждый час каждого дня в течение тысячи лет, из чего сделать вывод, что он, по статистике, вулкан остывший. Математика запишет это в формулах. А вулкан возьми да пробудись. Конечно, и этому быстро найдут объяснение, а если оно не впишется в рамки старой парадигмы, ее запросто сменят на более подходящую. – Тони продолжал курить трубку, запивая иногда клубы дыма темным пивом. Уилл безучастно цедил свое. Видимо, разговор в таком ключе был ему не впервой.
– Статистика вообще страшная штука, – после паузы вновь заговорил Грэйдвелл. – До сих пор смотреть не могу современный прогноз погоды. Со всей их аппаратурой, измерениями, статистикой и математикой. Но ведь до сих пор тычут пальцем в небо! Моя бабка в деревне еще полвека назад интуитивно чувствовала, какая завтра будет погода – во всех тонкостях предсказывала, когда пойдет дождь, откуда будет ветер. Неграмотная была совершенно. Ни писать, ни читать не умела. А погоду одним местом превосходно чувствовала. – Тони хохотнул. – Алан, ну а как ты относишься к условному Джиму, который, убегаю от гепарда, перепрыгивает стофутовую пропасть? Это выпадает из статистики и не объясняется математикой и физикой.
– Вы с ним знакомы, Тони, с этим Джимом? – подстегнул его я. – Никто не видел того прыжка. Как относиться к тому, чего, вполне вероятно, вообще не было и быть не могло?
– Такие события происходят по наитию. Они не могут произойти в том мире, который тебе знаком. Но они порой происходят в окружающем мире, который ты продолжаешь не знать. Наитие, удача – это части тех законов, которые управляют окружающим миром. Но эти законы не описать формулами. Божественное, истинное нельзя обличить в слова, текст или формулы без потери части смысла или вообще искажения сути. Дотянуться до этих законов можно только через интуитивное понимание и восприятие, только тогда сохраняется смысл. На глубине нашего подсознания можно отыскать способности, которые позволят приблизиться к восприятию этих законов. А как добраться до этих способностей – беззаветной ли верой или непреклонной, несгибаемой волей, – никто не ведает, у каждого своя манера движения.
И снова он все сводит к религии.
– Не очень понимаю, при чем тут вера. Вера, какая бы то ни была, устанавливает шоры и навешивает ограничения в мышлении. Если Джим убегает от гепарда, то не вера в Бога поможет ему преодолеть пропасть, а банальный дикий страх и интуитивная реакция организма.
– Не только поступок, но любая мысль появляется не сама, ее рождение побуждено волей человека, именно воля определяет потенциал будущей мысли, саму возможность ее существования. Вера помогает определить траекторию воли, она не только и не столько ограничивает, сколько определяет шаблон волеизъявления. Наше подсознание способно на все без ограничений. Совсем другое дело, что никто толком не умеет им пользоваться.
Вера – шаблон волеизъявления? Что за отсебятина? Черт с ним, этим религиозным фанатиком, пусть говорит, что ему вздумается. Развивать эту тему мне казалось определенно неразумным. Да и голова уже начинала гудеть от столь потного табачного дыма.
– Друзья мои, – внезапно вмешался Уилл, – подсознание – самая загадочная тайна во вселенной. Подсознание – сама вселенная. Тони, дорогой ты мой человек, хочу все-таки попросить тебя рассказать Алану твою историю. Это, несомненно, выходит за грань привычного, и лично я воспринимаю это как проявление чуда. – Если Тони, как он утверждал ранее, мог по запаху определять эмоции, то сейчас, похоже, я источал такие неодобрительные миазмы, что даже Уилл прочувствовал мой настрой и поспешил сменить тему. – Алан, я уже ознакомил Тони с рукописью твоего деда, и мы обязательно поговорим об этом сегодня.
Я благодарно кивнул другу.
– Хорошо, Уилли. – Энтони скурил весь табак в трубке и принялся неспешно заправлять новую порцию. Его движения были четкими и выверенными, но нарочитые неторопливость с размеренностью производили на меня, человека с импульсивным и взрывоопасным характером, сугубо негативное впечатление. Я допил свой эль и знаками заказал у официантки еще пинту.
– Я не сказитель, – начал Тони, пристально, испепеляюще взглянув на меня, вынудив отвести взгляд. – Приятной байки ждать не стоит. Каждое воспоминание – как будто новое переживание. – Он помедлил еще немного – то ли провоцируя меня, то ли подбирая слова. – Рейс ХХХ, восьмичасовой перелет через океан – тяжелый, даже со всеми этими удобствами в самолете. В ту пору уже запретили курить на борту воздушного судна, и каждый перелет превращался в настоящую муку. Все эти окружающие запахи страха, полного неведения, паники в салоне…
Грэйдвелл вновь замолк на какое-то время – наверное, повторно переживал произошедшие события.
– Это прозвучит безумно, но в тот день я с самого утра осознал, что ничем хорошим перелет не закончится. Запахи окружающего мира как будто кричали на меня, призывая остаться дома. Затхлость и спертость, ощущения смерти – как будто открыл холодильник, а оттуда пахнуло уже месяц как протухшей рыбой. И чем ближе к посадке, тем ощущение становилось гуще, концентрированней, что ли. Никогда со мной такого не было прежде. Это страшное ощущение. – Тони сделал очередную паузу, на этот раз раскуривая трубку. Официантка принесла мой эль, и я с удовольствием сделал глоток холодного напитка.
– Я никогда не испытывал такого ощущения, – продолжил Тони. – Никогда прежде. Я был молод, не понимал своих способностей, а лечившие меня от моего, гхм, недуга, доктора лишь усугубляли мое восприятие мира, пытаясь превратить меня в параноика, шизофреника, больного на всю голову ненужного этому миру засранца. – Он невесело усмехнулся. – Я каждый день боролся с собой вместо того, чтобы принять свои особенности и превозмочь их, превратить из слабостей в мощь. Медицина – настоящее зло, она способна только калечить жизни.
Я мельком взглянул на представителя этой самой медицины – своего друга, но он никак не реагировал – или же всячески делал вид, что его не задевают слова Энтони.
– Я сел в тот самолет, – продолжался тем временем рассказ курильщика, – и мы полетели. Окружающее разложение, вся эта гниль, которую ощущал только я, приводили меня в… Я никогда не мог подобрать правильного слова этому понятию. Не страх, не ужас, не паника, не мандраж. Это что-то такое, что обволакивает тебя, окружает со всех сторон, сжимает с каждым мгновением все сильнее, занимает все свободное место, вытесняя окружающее. Ничего вокруг меня не осталось, все пространство и время заняло это ощущение. Вот уже нет ни самолета, ни людей, ни звуков. Где-то на пике моего погружения в эту невообразимую жуть самолет рухнул. – Грэйдвелл затянулся и вновь окутал себя концентрированным табачным облаком. Слушая его повествование, внимая неспешному ритму и своеобразному тембру голоса, у меня засосало под ложечкой.
– Находясь в этом пограничном состоянии, – продолжал Тони, – я был вне сознания, вне окружающего мира. Много позже, знакомясь с различной литературой, я осознал, что о таком состоянии говорили экзистенциалисты, описывая моменты знакомства с экзистенцией, своим истинным существованием. В этом состоянии ты можешь вступить в диалог с Богом – не просто призвать к нему, как это бывает обычно, просить, умолять, требовать или выторговывать по одностороннему каналу, а именно вступить в диалог. Любая религия учит нас, как обратиться к Господу, но не дает ответа, как превратить свой монолог к Богу в диалог. А это возможно только лично, и только за пределами повседневности, за пределами этого мира. – Тони задумчиво повел вокруг руками, словно пытался изобразить сказанное.
– Мой диалог состоялся в тот день. А когда я вернулся в сознание, в свое тело, все вокруг было в огне. Хаос и множественная смерть. А я лежал на земле, среди обломков воздушного судна, в окружении истерзанных и пылающих тел и груд металла, среди гари, копоти и грязи, измазанный чужой кровью. Из всех летевших в живых остался я один. – Тони улыбнулся, но в его глазах не было веселья. – В буддизме есть легенда о победе Гаутамы над богом смерти Марой, – продолжал он. – Говорится, что борьба эта длилась одну ночь, и оружием Будды была лишь медитация, а победой стало его просветление. Тот же выход за пределы мира, переход в пограничное состояние отчуждения. Описания таких состояний мы видим в книгах о христианстве, иудействе, индуизме. В том или ином виде мы находим их во всех религиях, в каждой из конфессий, в любой вере.
Я не был солидарен с Тони, но в глубине души готов был понять его. Когда с тобой происходит история, выходящая за рамки любого разумного объяснения, есть два пути – свихнуться или обратиться в ту или иную веру. Разум человека социального не может функционировать в волшебном мире чудес, что допустимо лишь для выбравших первый путь. Подсознание активно ищет объяснений, способных удовлетворить потребности разума в восприятии такого окружающего мира. Хочешь ли того или нет, но религия дает такое удовлетворение, которое не требует рационального, научного объяснения. Религиозными ортодоксами становятся столкнувшиеся с предельно необъяснимым, чудесным, волшебным. Даже неловко казалось переходить к теме дедовских бредней – того и гляди, весь религиозный запал Тони вырвется наружу в виде праведного гнева над глумливостью презренных и их внеконфессиональных внуков.
– Тони, – после затянувшейся паузы произнес я мягко, но решительно, – мне кажется, вам не по нраву пришлась рукопись моего предка, ведь там нет Бога, и я, если честно, сам не понимаю, с какой целью он написал ее.
– Как раз там есть Бог. – Грэйдвелл задумчиво покрутил в руках трубку. – Бог, Алан, – это не старик с белой бородой, добрыми глазами и всегда раскрытыми в приветствии руками. Твой дед изобразил его в виде хранителей планеты. Лик Творца для каждого индивидуален. У твоего деда хватило смелости и наития вступить в диалог. А разве Бог не есть хранитель в привычном смысле? Выкладывая на бумагу свой диалог, неизбежно искажаешь суть. Если под хранителями твой дед подразумевал свое видение Бога, то обратное я не пойму – кого имеют в виду эти хранители? Группу людей, все человечество? Или животных? Может быть, органику, порождения углеродной биохимии? Вот вопрос, не дающий мне покоя – кто субъект в ответах хранителей твоего деда?
Тони умолк. Уилл безмолвно пил пиво. Я не знал, что сказать, и сосредоточенно впился в свой бокал. Краем глаза я заметил покидавшую зал пару, привлекшую мое внимание в начале разговора – невысокий пузан с пышноволосой стройной девушкой в обтягивающем платье. Каково же было мое изумление, когда мне удалось увидеть ее лицо – совсем не молодое, – разглядеть дряблую кожу на шее, умело замаскированные морщины – все эти признаки возраста. Пластическая хирургия с косметологией хоть и творят чудеса, но обратить старуху в девочку без различимых следов пока не могут. Тони был прав, когда не глядя, по одному лишь запаху, определил ее в старухи – да она мне в матери годилась!
Я перевел взгляд на Грэйдвелла – а он широко улыбался, глядя прямо на меня, и по всему его виду мне стало ясно, что он читал меня как открытую книгу. Я смутился и невольно отвел взгляд.
– Рукопись деда, – попытался я сменить тему, – о чем говорит ее запах?
– В ней много запахов, – охотно переключился курильщик. – Как и в любом творении, что рождалось на протяжении многих лет, в нем сплелись мириады ощущений, чувств и переживаний автора. Но центральной линией, через все повествование, проходит запах, который трудно с чем-то спутать – твой дед искренне верил в написанное.
– Энтони, ну вы же понимаете, что от такой характеристики не горячо и не холодно? – запротестовал я. – Психически больной человек тоже на все сто процентов, без какого-либо сомнения, уверен в том, что он, скажем, Наполеон Бонапарт. Но такая уверенность ничуть не превращает желаемое в действительное.
– Истины вообще не существует, – кивнул Тони. – Задавшись целью, можно доказать право на существование самых противоположных, взаимоисключающих понятий – все зависит от мастерства доказывающего, качества аргументов и навыка их использования. Человеку можно внушить что угодно, призывая либо к разуму, либо к чувствам, либо к памяти – как к готовым гештальтам, так и непосредственно формируя нужные образы в голове, создав определенную атмосферу, обстановку, окружение. Уилли, конечно, специалист куда более сильный в этом вопросе, – Грэйдвелл многозначительно кивнул, – мой же опыт – как у подопытного кролика: многие опробовали свое искусство на мне. Одни пытались дознаться, как же я остался живым и невредимым среди сотни трупов, не я ли устроил ту аварию. Затем, когда не до чего не допытались, передали меня другим, которые принялись активно лечить, сами не зная от чего. Но обмануть можно разум, сознание, а интуицию не обманешь. Как раз наша так называемая рациональность и заставляет нас отвернуться от интуитивного восприятия. К сожалению, мы утратили способность тренировать и развивать интуицию, но ведь лишь через интуицию можно достигать осознанного наития и озарения. – Грэйдвелл призадумался, глубоко затянувшись. – Уметь входить в пограничное состояние, поставить наитие под контроль, воспитать продиктованную чистой интуицией сильную волю к достижению и реализации – вот ключ к победе. Лишь в этом пограничном состоянии мы способны выйти за пределы самогипноза заблуждений, обманчивых истин и ограничивающей рациональности – в самом негативном смысле этого слова, – той самой псевдорациональности, которая заставляет нас безоговорочно довериться авторитетным мнениям и всю жизнь как зомби программироваться внушениями извне.
– Только отшельник – такой, как мой дед, – может отгородиться от внешнего воздействия, – сказал я, – но это значит пойти на изоляцию от общества, а это регресс. Если каждый человек станет отшельником, сколько останется человечеству – одно-два поколения? В наш век вокруг слишком много информации, чтобы всю ее проверить и перепроверить на личном опыте – а, значит, какие-то авторитетные мнения все равно должны остаться. Иначе мы с вами быстро придем к тому, что Земля плоская, и солнце вращается вокруг нее, ведь именно это мы наблюдаем изо дня в день, и не имеем прямой возможности убедиться в обратном.
– Бесспорно, Алан, – широко улыбнулся Энтони. – Да вот уже без малого пятьсот лет минуло с тех пор, как было предложено подвергать все сомнению в познании истины. А сколько авторитетных умов человеческих испражнялось на эту тему за прошедшие годы! Но что толку? Человечество за две тысячи лет не стало лучше ни на йоту. В попытках созидания мы лишь приближаем разрушение. Только за прошлое столетие мы имеем две крупнейших во всей истории человечества мировых войны, массовые геноциды, истребления целых народов, ядерное оружие, глобальное потепление, перенаселенность. Твоего деда в его повествовании весьма волновала эта тема – он рассуждает о созидании и разрушении. Он лично прошел через страшнейшую войну, и он мог себе позволить рассуждать об этом. Человечество не умеет созидать – как показывает история, все, чего касается рука человека, тяготеет к разрушению, опустошению и вымиранию. Единственный созидательный, по сути своей, фактор – это растения, ведь они создают саму жизнь, порождая кислород, производят органические вещества с запасом энергии для питания живых существ. А человек, увы, деструктивен по сути своей.
– Пацифисты с «зелеными», знаете, не сильно способствуют улучшению мира. Не только человек деструктивен, – отмахнулся я, – вся природа такова. Дарвин, эволюция, круговорот веществ в природе, пищевая цепочка. Львы и акулы тоже не шибко-то миролюбивы. Не верю я в то, что можно следовать примеру растений, оставаясь человеком. Внутренняя суть хищника – нападать на жертву, а суть жертвы – от хищника прятаться.
– Весьма эгоистично и чертовски верно! – поддакнул Энтони. – Человеку свойственно на все вокруг навешивать маски и прятаться в собственных заблуждениях. Ровно об этом я и говорю – заблуждения окружают нас повсеместно, и мы безостановочно погружаемся в них. Кругом одни маски. Официантка тебе улыбается, но это вовсе не значит, что ей приятна встреча с тобой – она хочет казаться миролюбивой, потому что так принято. Любая религия приписывают божественному земной облик – это тоже маска. Придав неземному земные черты, мы как будто приближаем это, спускаем с божественного, недосягаемого, на свой уровень. Но это совершенно лишнее. Я, например, сторонник гилозоизма, что ли, то есть обезличенного участия всей материи в том, что принято относить к божественному. Творец в каждом из нас, в каждой окружающей песчинке. И лишь мы сами виноваты в том, что практически не способны обратиться к неисчерпаемым ресурсам своего организма. Мы привыкли молить Бога, потому что мы слепы и глухи, склонны относить все непонятное к ненормальному и аномальному. Я смотрю на эти заблудшие души, и порой мне хочется крикнуть во все горло: «Проснитесь, люди!». А они погружены в самогипноз, им не нужна самостоятельность, они хотят оставаться незаметными кирпичиками той или иной системы. Я бы хотел донести до людей суть их заблуждений, пробудить в них желание сбросить шоры, призвать их стремиться к диалогу с божественным, поверить в возможность чуда. Да никудышный из меня оракул. Вся надежда, – он повернулся к психологу, – на твою будущую книгу, Уилли – быть может, кому-то она да откроет глаза.






