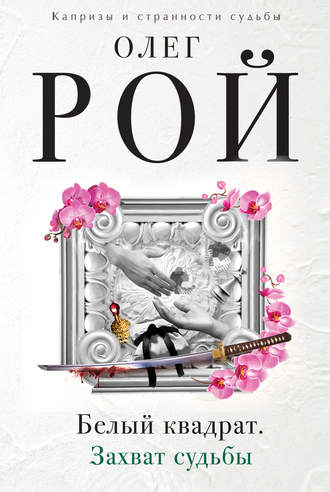
Олег Рой
Белый квадрат. Захват судьбы
© Резепкин О., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Спасибо моим друзьям – продюсерам фильма «Начало. Легенда о самбо», а также лично Георгию Шенгелия и Сергею Торчилину, чьи идеи вдохновили меня на создание этого романа, и моему консультанту по политико-экономическим, военным и социально-бытовым аспектам сюжета Битанову Алексею Евгеньевичу.
Памяти моего сына Женечки посвящается.
События, описанные в романе, не претендуют на полную историческую достоверность и являются художественным вымыслом.
Глава 1
Сердце из кремня
Новосибирск встречал Спиридонова переменной облачностью; судя по всему, не так давно прошел дождь, краски вокруг были яркими, сочными, воздух все еще был насыщен влагой.
Ступив на перрон, Виктор Афанасьевич достал папиросы и закурил последнюю, спрятав пустую пачку в карман кителя, чтобы при случае выбросить в урну. И тут он увидел Ощепкова.
Виктор Афанасьевич сразу узнал его, хоть и представлял себе по-другому. Василий Сергеевич оказался крупнее и старше (последнее, впрочем, легко объяснить – фотографии в деле были нескольких лет давности). Одет он был в простой костюм, какие носят советские служащие летом, – светлая блуза с накладными карманами и чуть более темные просторные брюки. На ногах – ботинки армейского образца, в каких ходила тогда вся страна независимо от пола и возраста. На голове – светлая шляпа с широкими полями, довольно-таки несерьезная. Через руку переброшен светлый же плащик – их на юге России почему-то зовут макинтошами.
Виктор Афанасьевич нарочно зашел не с той стороны, куда Ощепков смотрел, выглядывая его, и бодро проговорил:
– Василий Сергеевич, не меня ли высматриваете? Я Спиридонов.
И протянул ему руку, с ноткой злорадства глядя на мгновенное замешательство. Впрочем, Ощепков совладал с собой моментально.
– Как я вас упустил? – патетически воскликнул он, крепко пожимая протянутую ему руку. – Рад познакомиться, Виктор Афанасьевич, весьма наслышан.
– Как и я про вас, – с готовностью отвечал Спиридонов. – Но, конечно, хотелось бы познакомиться ближе, коллега. Должен сказать, вашими успехами я впечатлен.
Ощепков смутился, натурально, как институтка. Высший дан по дзюудзюцу, вынужден был напомнить себе Спиридонов. В поведении, да и во всем облике Ощепкова было что-то детское, невинное, незамутненное. Это как-то не вязалось ни с его шпионской биографией, ни с тем, что было известно о нем как о дзюудоку.
– Непременно! – ответил Ощепков с энтузиазмом. – Нас с вами объединяет дзюудзюцу, а это, как вы знаете, намного больше, чем «схватил-подсек-повалил».
Виктор Афанасьевич кивнул. На его вкус, Ощепков был простоват, как инженерный карандаш.
– Несомненно, – улыбнулся он. – Сгораю от нетерпения узнать вашу историю. Вы видели места, где я только мечтал побывать, Кодокан…
– В свою очередь хотел бы познакомиться с вашей историей, – ответил Ощепков. – Как я слышал, вы учились у японского мастера. Я многих среди них знаю. Хотелось бы провести с вами хотя бы один поединок. Вы ведь тренируете московскую милицию; о вас говорят как о большом мастере…
– И вам не терпится узнать, насколько это соответствует действительности? – улыбнулся Виктор Афанасьевич. – Как я могу вам отказать? Мне только надо найти какую-нибудь гостиницу, а потом…
– Я отвезу вас, – живо вызвался Ощепков, – у меня извозчик заложен. А для вас заказан номер в «Метрополе»… простите, в «Октябрьской», просто все ее «Метрополем» здесь называют, как раньше.
И он улыбнулся какой-то бесхитростной, совершенно детской улыбкой. Улыбка ему удивительно шла.
– В «Метрополе»? – удивился Виктор Афанасьевич. – Но зачем? Я же не нэпман какой-то, меня бы вполне устроила чистая койка в какой-нибудь гостинице попроще.
Ощепков опять смутился. Но не так, как можно было бы ждать от провинциального чиновника, раболепствующего перед столичным и начинающим метать перед ним бисер (вспомним отечественных сатириков от Гоголя до Ильфа и Петрова). Нет, Василий Сергеевич смущался не от того, что чувствовал себя «на скользкой почве». Его смущение шло от души, от чистого сердца:
– Вы здесь из-за меня… Проделали долгий путь, оторвались от своих дел, оставили учеников…
Виктор Афанасьевич остановился и сказал почти строго:
– Но ведь и вы собираетесь оставить своих… И не просто надолго. Если все сложится так, как надо, вас переведут в Москву.
Василий Сергеевич посмотрел Спиридонову прямо в глаза и со вздохом ответил:
– Видит бог, мне бы этого не хотелось! Я привязчивый. Очень привыкаю к людям, к местам… Я любил Сахалин, хотя там нечего было особо любить, любил Токио, хотя он совершенно чужой нам, любил Владивосток… Теперь вот люблю Новосибирск. Но судьба не интересуется нашими предпочтениями. Я не виноват, что Машенька расхворалась. – Его глаза подозрительно заблестели, но Ощепков быстро взял себя в руки: – В свое оправдание скажу, что мне есть на кого оставить секцию. Другим тоже следует расти, а мне – обживаться на новом месте. Такова жизнь…
Спиридонов машинально кивнул, и они продолжили путь.
* * *
Оставив вещи в гостинице, Виктор Афанасьевич и его спутник сразу же отправились в спортклуб Осоавиахима, где Ощепков проводил занятия. Машин в городе почти не было, да и гужевой транспорт не запрудил улицы, и в целом, если сравнить с Москвой, Новосибирск казался тихим и патриархальным, о чем Виктор Афанасьевич опрометчиво не преминул сообщить Василию Сергеевичу.
Тот отреагировал, видимо, с легкой обидой, потому как пустился в пространные объяснения:
– Во-первых, мы с вами едем по периферийным кварталам, вдали от, так сказать, делового центра. А во-вторых, сегодня же пятница. Все домой спешат, отдохнуть после трудовой недели.
– А с преступностью у вас как? – поинтересовался Спиридонов, не подав виду, что заметил обиду.
– Бог миловал, – с удовлетворением ответил Ощепков. – Во Владивостоке похуже было, и то справлялись. А в Москве что?
Виктор Афанасьевич вздохнул:
– Да уж не то что раньше, но могло быть получше. Сознательность в народе растет медленно. Но мы над этим работаем, так сказать, не покладая рук и не жалея ног.
Василий Сергеевич каламбура, скорее всего, не понял:
– Здорово! Я вот занимаюсь с рабочей молодежью, и, доложу я вам, сколько в этой среде талантов! Золотое дно. Хорошо, что советская власть дает им возможность прорасти, не как встарь: упало зерние в терние… – Виктор Афанасьевич молчал, и Василий Сергеевич продолжил: – Дзюудзюцу меняет человека, меняет к лучшему. Я заметил, ко мне многие приходили, чтобы «научиться драться». Сейчас они совсем другие люди.
– Научились драться? – ровным голосом уточнил Спиридонов.
Ощепков выражением лица дал понять, что речь о другом:
– Научились жить! Думать научились, и все благодаря дзюудзюцу. Вы, кстати, как, не проголодались с дороги? Можем в столовую заехать, ресторана, правда, не могу предложить.
– Спасибо, не голоден, – ответил Виктор Афанасьевич. При его обычно скудном пайке и после вчерашней обильной трапезы в вокзальном общепите он мог не испытывать чувства голода еще дня три. – А вот курево мне купить стоило бы. У меня кончилось, а на вокзале я разносчиц что-то не заметил. Брал с собой в дорогу, но все выкурил… В поезде, знаете ли, чем еще заниматься?..
– Тогда остановимся у табачной лавки, – решил Ощепков и спросил у извозчика: – Дружок, здесь где-нибудь махоркой торгуют?
– На перекрестке есть лабаз Потребсоюза, Василь Степаныч, – степенно ответил тот, – да товар там негодный, одно название, что табак, а так солома сухая. Заехать, что ли, к Дешевкиным? У них есть любое курево, хошь «Кино», хошь буржуйское зелье. Правда, цены дерут, буржуи недобитые…
– Заедь, дружок, будь добр, – попросил Ощепков, поудобнее усаживаясь на сиденье. – А уж вы меня, Виктор Афанасьевич, великодушно простите, курить, по-моему, дело дурное.
– Извозчик-то ваш, что ли? – Виктор Афанасьевич пропустил замечание о вреде табака мимо ушей. Только морализаторства ему тут не хватало!
– Чей это «наш»? Новосибирский? – удивился Ощепков.
– А откуда же он вас знает? – в свою очередь был удивлен Спиридонов.
Ощепков разулыбался:
– А меня тут каждая собака знает, не то что рабочий люд. Как там у Есенина? «В переулках каждая собака знает мою легкую походку». Вот только, к счастью, по другому поводу.
Будь на месте Ощепкова кто-то другой, Виктор Афанасьевич давно бы решил, что тот задается, кичится своим показательным образом жизни – с Ощепковым представить себе такое было решительно невозможно. Казалось, Василий Сергеевич был напрочь лишен и малейшего намека на то, чтоб лукавить и играть роль. Говорят, сильные от природы люди добры. Действительно, очень часто, если не всегда, злыми человеконенавистниками люди становятся оттого, что несчастны и не видят ничего лучше, чем делиться своим несчастьем с окружающими. Впрочем, и сильных людей не обходят несчастья…
– Вот и лавка, – сообщил Ощепков, локтем дружелюбно подпихнув Спиридонова в бок. – Идите покупайте свою милую вашему сердцу отраву, а мы подождем.
Виктор Афанасьевич проворно выскочил из коляски и поспешил под сень вывески бедного провинциального сородича московских нэпманских «универсальных магазинов». Здесь, как и в Москве, можно было отовариться чем угодно – с поправкой на провинциальность заведения, разумеется. Виктор Афанасьевич, впрочем, купил только две пачки папирос «Кино», дешевых и дурно пахнувших. Выйдя на крыльцо, с наслаждением закурил. И как это он выдержал час без курева? Обычно он закуривал каждые полчаса…
«Надо будет перед отъездом сюда еще разок заскочить, – отметил он про себя. – Две пачки – этого мне не хватит…»
Он все думал об Ощепкове. Образ прожженного афериста-двурушника рассеялся, но осадок сомнений все же оставил. Доверять Ощепкову Виктор Афанасьевич не мог, но и воспринимать его как прохиндея тоже уже был не в состоянии. Больше всего Василий Сергеевич напоминал добродушного увальня, но…
Но как тогда он сумел так успешно сотрудничать с разведкой ДВР, скажите на милость? Откуда в этом бесхитростном человеке столько нашлось… (он поискал слово) изворотливости? Ведь иначе как он мог уцелеть, когда все подполье оказалось проваленным? Вот в чем загвоздка… Ну да ладно. Посмотрим, что он сам скажет на это.
Докурив, Виктор Афанасьевич вернулся в коляску.
– Простите, задержался, – пробормотал он, забираясь на сиденье. – Не хотел травить вас дымом.
– Да курите, товарищ, – великодушно разрешил извозчик, – не стесняйтесь. Иные пассажиры как сядут, да как пойдут дымить вчетвером…
Свое извинительное замечание Спиридонов адресовал не извозчику, конечно же, а Ощепкову с его правильным образом жизни, но вносить ясность было бы глупо.
До спортзала, оборудованного в старом угольном складе, добрались быстро. Здание напоминало саманный китайский овин ровно настолько, насколько океанский лайнер напоминает озерную плоскодонку, однако Виктор Афанасьевич поймал себя на каком-то смутном чувстве узнавания. Окна под крышей, сквозь которые льется в зал серый свет пасмурного дня, обширное пространство с белым квадратом татами на полу… точнее, квадратами – татами в зале было несколько, а главное – символ инь-ян на стене – вот что служило поводом к спиридоновскому дежавю.
– Вот здесь мы и тренируемся, – прокомментировал Ощепков, пропуская Спиридонова вперед. – Не бог весть что, конечно, но и того довольно.
– По-моему, совсем неплохо, – откликнулся Виктор Афанасьевич. – Как будете в Москве, я вам свой зал покажу. Условия примерно те же, только и того, что паровое отопление имеется. Зимой-то вы как?
– Мерзнем, что уж тут говорить, ну и тренируемся в ватниках с валенками, – улыбнулся Василий Степанович. – Здесь температура ниже четырех не падает даже в самые лютые морозы.
Фразу про Москву он, похоже, пропустил мимо ушей, а Виктор Афанасьевич ее запустил как пробный шар. И что он узнал? Да ровным счетом ничего. Ощепков был весь округлый, ухватиться не за что. Может быть, в этом и секрет его конспиративных успехов?
– Вот тут у нас раздевалки, – Василий Степанович указал на воздвигнутые в конце зала деревянные выгородки. – Это ребята сами сообразили, есть среди них рукастые, из рабочей молодежи. А мой кабинет наверху. По лестнице надо подняться.
Он остановился у лестницы и сказал со смущением:
– Вы уж простите, Виктор Афанасьевич, но домой к себе я вас пригласить не могу. У Машеньки открытая форма, дом превращен, можно сказать, в лазарет. Меня-то хворь не берет, бог знает почему, а за вас я в ответе: вдруг заразитесь? Да и Маша слаба, не до гостей ей…
Виктор Афанасьевич кивнул:
– Заразиться я не боюсь, а вот больную тревожить и впрямь ни к чему. Побеседуем у вас в кабинете. У нас время-то есть?
Василий Сергеевич посмотрел на часы (какие-то дешевенькие, с тонкими стрелочками и картонным циферблатом в металлическом корпусе):
– Тренировка через два часа с половиной. Вы же останетесь на тренировку? Вы мне еще и поединок обещали.
Виктор Афанасьевич улыбнулся. В словах Ощепкова опять проступило что-то детское; так дети напоминают родителям, что те обещали сводить их в зоосад:
– Я не из тех, кто нарушает обещания. Посмотрим, чему вы учите своих бойцов. Может, что-то и почерпну… Как говорится, век живи, век учись, да все одно помрешь дураком.
– Тогда идемте ко мне, – с детским воодушевлением пригласил Василий Сергеевич и стал подниматься по лестнице. Виктор Афанасьевич следовал за ним.
* * *
Кабинет Ощепкова оказался небольшим и чем-то напомнил Спиридонову недавно приходившее ему на память купе Сашки Егорова. В углу стоял японский манекен, на котором отрабатывают удары и захваты, остальной интерьер составляли старый овальный стол простой работы и три разнокалиберных стула. В кабинете царил дух запустения.
– Я тут почти не бываю, – пояснил Василий Сергеевич, словно прочитав его мысли. – Так, только чтобы переодеться. Раньше больше времени проводил здесь, да теперь не до того: каждую свободную минуту возле жены, сами понимаете…
У Спиридонова кольнуло сердце. О да, он понимал! По коже пополз неприятный холодок. Он мысленно пожелал собеседнику никогда не пережить того, что пережил он в ту ночь. Это понимание приблизило его к Ощепкову, породило в душе некое сочувствие. Он выбрал стул, рефлекторно смахнул с него пыль и сел. Ощепков сел напротив.
– Итак, Виктор Афанасьевич, давайте начистоту. Полагаю, не ошибусь, если скажу, что в вашем лице я имею честь беседовать с ОГэПэУ, верно?
– Можно и так сказать, – ответил ему Спиридонов и улыбнулся. Прямота собеседника ему импонировала. – Как вы знаете, мы с вами коллеги, вы, насколько я понимаю, тренируете милиционеров с восемнадцатого года…
– С семнадцатого, но с перерывами, – ответил Ощепков. – А вообще, я и с подпольщиками работал.
– Ну вот, а я тренирую московскую милицию, – продолжал Спиридонов. – Выходит, одним делом занимаемся. К тому же и вы, и я – дзюудоку, хотя у меня и нет таких регалий, как у вас.
– Будем откровенны, Виктор Афанасьевич, – предложил Ощепков. – Вы человек известный. Полагаю, вы бы с легкостью сдали на высший дан.
– Не слишком ли поспешно вы судите? – возразил Спиридонов. – Вы еще не видели меня… хм… на татами.
– Зато встречался с некоторыми из ваших учеников и весьма впечатлен, – парировал Ощепков. – Не скрою, меня очень интересует ваша система, и я очень надеюсь, что еще смогу детально с ней ознакомиться. Вы ведь не станете отрицать, что шагнули гораздо дальше того, чему научились в плену?
– Не стану, – подтвердил Спиридонов, задаваясь вопросом, являются ли слова Ощепкова все же попыткой подольститься к нему или же он говорит искренне. В глубине души Виктор Афанасьевич полагал, что разбирается в людях, но тут был поставлен в тупик: по всему выходило, что Ощепков и впрямь высоко его ценит. – Раз уж мы с вами начистоту… Вы сказали, что в моем лице видите ОГэПэУ… А вот я в вашем Кодокан вижу…
– Вряд ли почтенный Дзигоро Кано одобрил бы ваши экзерсисы, – улыбнулся Ощепков. – Он глубже всех погружен в дзюудо, он фактически сам есть дзюудо, но в этом не только его сила, а и слабость: дальше канонов своей школы он не видит.
«Он говорит то же, что и Фудзиюки», – подумал Спиридонов, а вслух повторил:
– Вы интересуетесь моей системой, а я, в свою очередь, хочу узнать, что такое Кодокан. И очень надеюсь, что вы мне это расскажете. Вы все это видели, трогали руками…
Ощепков прищурился, очень как-то по-детски:
– Вот я и подумал, что самым правильным с моей стороны будет рассказать вам мою историю, от корки до корки. Этим мы и ваше любопытство удовлетворим, и, надеюсь, снимем возможные вопросы, какие возникнут у вашего начальства. Я догадываюсь, как выглядит моя биография со стороны. Откровенно говоря, меня можно было бы даже пристрелить чисто из осторожности, на всякий случай, так сказать. Увы, это судьба всех разведчиков – постоянно быть под подозрением, даже у своих. Оттого-то я легко отказался от этой карьеры. Довольно. Я и без этого могу принести пользу рабоче-крестьянскому государству.
– Хорошее решение, – заметил Виктор Афанасьевич относительно предложения Ощепкова изложить его биографию в виде монолога от первого лица. – Вы не будете возражать, если я буду какие-то моменты уточнять?
– И записывать, вы хотели сказать, – улыбнулся Ощепков. – Я видел у вас в кармане блокнот и автоматическую ручку. Думаю, вы неспроста их захватили.
Спиридонов ничуть не смутился. Да, все так. А как же иначе? Это его работа.
– Человека нельзя судить по бумагам, даже по самым документально точным, – сказал дальше Ощепков. – Я, например, верю только личному впечатлению. Терпеть не могу анкеты, личные дела и прочую канцелярщину. Жаль, что люди так неискренни друг с другом, бумаге доверяют больше, чем живому слову…
Виктор Афанасьевич вспомнил отца Клавушки, ее невесть где сгинувшего дядю, своих родителей… Их честному слову верили больше, чем векселю, заверенному крючкотворами-нотариусами. Но не рассказывать же об этом Ощепкову, право слово!
Потому он только кивнул и достал блокнот.
– Я буду с вами искренен, как на исповеди, – пообещал Василий Сергеевич. – Есть вещи, о которых мне говорить неприятно, но я расскажу и об этом. Мне нужно, чтобы вы составили обо мне как можно более точное впечатление. Знаете, я очень обрадовался, узнав, что именно вы вышли пояти мою душу. Потом, что у нас есть одно несомненно общее – дзюудзюцу с его древней мудростью. Эту мудрость ценил и уважал даже столь высокодуховный человек, как отец Николай, а это дорогого стоит. Кстати, из постыдных тайн укажу, что я, несмотря на политику партии в этом вопросе, человек верующий. Думаю, со временем отношения Церкви и государства установятся. Можете и это внести в протокол, если хотите.
Виктор Афанасьевич отрицательно покачал головой:
– Во-первых, протоколов я не веду, а во-вторых… Это не важно, но я не советую вам признаваться в чем-то подобном кому-то еще. Кому-то стороннему. В особенности в Москве.
– А вы? – спросил Ощепков. – Вы не считаете, значит, себя сторонним? Так оно и есть: ни вы мне не сторонний, ни я вам. Черт его знает, куда эта кривая вывезет, но мне бы хотелось, чтобы вы стали мне другом.
Он как-то странно повел плечом, словно сбрасывая воображаемый гусарский ментик.
– Я, говорят, болтлив; давайте пустим это в конструктивное русло. Итак, история Василия Сергеевича Ощепкова, рассказанная им самим.
* * *
– Вы можете решить, что я пытаюсь вызывать у вас жалость, – начал Ощепков, опершись локтями на стол и подавшись вперед, навстречу Спиридонову, – но я лишь говорю то, что есть. Я стал сиротой задолго до того, как умерли мои родители. Пожалуй, с рождения на свет, а то и раньше. Чужие мне по крови люди в моей судьбе принимали намного большее участие, чем те, кого считают родными. Свой среди чужих, чужой среди своих… звучит мелодраматично, но, по сути, очень верно. Прежде чем я расскажу о тех, кто сделал меня тем, кем я есть сейчас, я расскажу о тех, кто произвел меня на этот свет. В конце концов, считается, что все мы – совокупность наших родителей, не так ли?
Могу биться об заклад: первое, что неприятно вас поразило в моей биографии, это то, что я – сын каторжницы от ссыльнопоселенца. – Ощепков горько улыбнулся: – Это вы еще и половины правды не знаете. Давайте начнем с моей покойной матушки. Вы любите свою мать?
– Какой же человек не любит мать? – пожал плечами Спиридонов. – Кем надо быть, чтобы маму-то не любить?
– Извергом, – кивнул Ощепков. – Я видел таких немало. Напомню, я рос на острове извергов. Потому то, что я любил свою мать, посторонним казалось как минимум странным. В моем детском окружении родителей не любил никто. Ребенок на Сахалине не благословение, а проклятие. Нигде не делают столько абортов, нигде не убивают столько младенцев, как там. За этим никто не следит, ребенок на Сахалине появляется не в родильной палате – настоящее «рождение» происходит в церкви, во время крестин. Дожить до этого – уже огромная удача, если в таких условиях можно вообще говорить о какой-то удаче.
Мне повезло, но отнюдь не благодаря той женщине, которая произвела меня на свет. Если бы не отец (который, кстати, сам вовсе не рад был моему появлению), она с легкостью выскребла бы меня из своего лона, а если бы это по каким-то причинам не удалось – размозжила бы мне камнем голову в одной из бухточек острова, замотала бы вместе с этим камушком в пеленку и швырнула с сопки в океан.
Ощепков вздохнул. Спиридонов смотрел ему в глаза – они были отстраненными, словно он видел далекий, канувший в прошлое, довоенный Сахалин…
– Иногда я представляю себе Конец света, – продолжал Ощепков. – Когда море отдаст своих мертвецов – боже, сколько тогда младенцев восстанут из сахалинского прибоя! Наверно, армия мальчиков и девочек, родители, матери которых решили, что жить им незачем. Причем некоторые из них поступали, как им казалось, из любви – дескать, зачем ребенку жить да мучиться на каторге? Странное милосердие, вы не находите? Но они были убеждены, что поступают так из любви к своим отпрыскам, когда клещами абортмахера или подходящим булыжником уничтожали будущее своих крошек. Но мою мать в этом обвинить нельзя: если бы она убила меня в утробе или после рождения, она сделала бы это вовсе не из любви ко мне.
Спиридонов остановил Ощепкова жестом руки:
– Погодите, Василий Сергеевич, – сказал он почти умоляюще. – Я верю, что вы говорите то, что считаете истиной, но не сгущаете ли вы краски? Мне, простите, сложно поверить в то, что на свете может существовать чудовище, способное ненавидеть своего ребенка. Я, конечно, по роду службы – порой я участвую, знаете ли, в оперативных мероприятиях московского ОГПУ) – сталкивался с женщинами, убивавшими своих детей – в помутнении рассудка от нищеты или по другой какой причине, но чтобы в здравом уме, в трезвом рассудке…
– Именно что в здравом уме и трезвом рассудке, – твердо сказал Ощепков. – Но о ненависти я не говорил. Для того чтобы ненавидеть, Виктор Афанасьевич, для начала нужно любить. А она меня никогда не любила, оттого и ненависти ко мне у нее не было. Я был лишь досадной помехой. А уж как она умела устранять помехи…
Я ношу фамилию Ощепков, и это фамилия моей матери. Родилась она тридцатого ноября тысяча восемьсот пятьдесят первого года в деревне Ощепково Воробьевской волости Оханского уезда Пермского края, в семье купца второй гильдии Семена Никаноровича Ощепкова. Дед мой был из тех крепостных крестьян, которые, получив вольную, словно сжатая дотоле пружина, распрямились и устремились от крепостного бесправия к преуспеянию. Неуемная энергия, стальная воля, природная сметливость и хватка волчьего капкана – вот что такое характер моего деда. К чести его могу сказать, что он никогда не «шел по головам» и поступал с людьми как минимум справедливо, хоть и порой сурово. Довольно быстро он добился успеха на торговом поприще, став купцом сначала второй гильдии, а затем и первой. Возможно, вам мой рассказ покажется маловероятным, но…
– Отчего же, – перебил его Спиридонов, – мне такие люди хорошо знакомы.
– Дайте угадаю… Вы и сами из купеческого сословия? – ребячливо улыбнулся Ощепков. – Не переживайте, дальше меня это не пойдет. Все это в прошлом, пусть там и остается. Ох… право, мне не хочется все это рассказывать, я словно раздеваюсь перед вами, чтобы показать свои многочисленные язвы и струпья. Но эти язвы давно зажили. Просто вам следует все это знать, чтобы лучше меня понимать. Я не слишком обязываю вас, предлагая свою историю?
– Бросьте, – отмахнулся Спиридонов, – мне ваш подход по душе. Чем больше я буду знать, тем справедливее будет мое мнение…
Про себя же Спиридонов подумал, что подобная откровенность сработала бы против Ощепкова, разоткровенничайся он вот так же в Москве. Не слишком ли легко он доверился сейчас постороннему человеку? И это бывший разведчик? Да еще такой, который сохранил свое положение во время крушения подполья? Не мало ли для такой откровенности их совпадения на почве занятий японской борьбой?
Спиридонов ни за что б не поверил в такое, если бы не Ощепков. Прикусив кончик ручки, он посмотрел на собеседника. То, как человек смотрит, может сказать о многом.
Ощепков смотрел на него прямо, не пряча взгляда, но и без вызова, честно. Одно из двух – или он лжец, каких свет не видывал… или не от мира сего. Не от мира сего…
Значит, от мира дзюудзюцу?
– …так что рассказывайте дальше, будьте добры, – мягко попросил он. – Даю вам честное пролетарское, что не стану никому пересказывать все, что здесь услышу. Ничего, кроме своих выводов, которые сделаю после. Идет?
– Тогда продолжу, – кивнул Ощепков. – Жена моего деда, бабка моя, была дивно красивой. Женихов у нее было не счесть, и всем им она предпочла моего деда, хотя тогда он не был богат и успешен, да и внешне был вполне зауряден. Моя бабушка оценила его волевые качества; она была уверена, что Семен Никанорович многого добьется в жизни, и не ошиблась… вот только ей это не помогло. Через несколько месяцев после рождения дочери моя бабушка заболела и, несмотря на все старания мужа, умерла, оставив его с грудной дочерью на руках.
Какой это было трагедией для моего деда, можно было судить по тому, что он так и не женился во второй раз, хотя, пожелай он, ему было бы из чего выбирать, и выбор был бы непрост. Не знаю, знакомы ли вам такие чувства – когда человека невозможно заменить кем-то другим, когда в мире становится пусто, холодно и темно после его ухода… Это мало кто пережил…
«Вот я пережил», – подумал про себя Спиридонов. Однако его мысль, должно быть, как-то отразилась у него на лице: Ощепков запнулся и внимательно посмотрел на него. Потом продолжил:
– …но мне кажется, что вы понимаете, о чем я. Так вот, всю свою любовь дед перенес на мою мать. Он растил ее, по его же словам, «как маленькую барыню». Мать моя ни в чем не знала отказа. Никакой работы ей не поручали, хотя дед, даже нанимая на работу сотни батраков ежегодно, сам не гнушался любого труда. Вы, наверно, решите, что он просто избаловал мою матушку. Отчасти да, но лишь отчасти. Внешностью моя матушка пошла в бабку, характером – скорее в отца, если бы не одно «но».
О Семене Никаноровиче по сей день говорят, что он был справедливым человеком, и это при том, что его уже тридцать с лишним лет нет на белом свете; моя матушка же знала лишь один незыблемый принцип: «я хочу». Дед долго закрывал глаза на ее своеволие, но конфликт между его принципиальной справедливостью и ее твердокаменной беспринципностью был им словно на роду написан.
Когда моя матушка подросла, отец решил позаботиться о ее будущем. Как истый домостроевец, он не доверял деловым качествам женщины и не собирался оставлять ей свое состояние. Но и оставить ее без гроша, конечно, тоже не собирался. Подбирать ей мужа он начал очень давно и нашел, как ему казалось, идеального. Юноша энергичный, сметливый, но бедный казался ему наилучшим претендентом в мужья для своей дочери. К будущему зятю Семен Никанорович относился как к родному сыну – он научил его всему, поставил на ноги, вывел в люди и, в конце, сделал своим торговым товарищем[1].
Дед, в общем, хорошо разбирался в людях, и в Герасиме Фомиче не ошибся: тот не только искренне полюбил своего благодетеля, но и оказался наделенным деловой хваткой. В ранге товарища он стабильно приносил предприятию деда немалые барыши и в конце концов стал бы не менее успешным, чем дед, если не более. Когда подошло время, дед объявил любимой дочке, что решил выдать ее замуж за Герасима…
* * *
Ощепков откинулся назад и хрустнул пальцами:
– Однако зря мы не взяли чего-то выпить, хотя бы нарзану, что ли. Никогда еще так много не говорил, а ведь история только начинается.
– Можно прерваться и поискать чего-нибудь… – неуверенно предложил Спиридонов. – Но вы так складно рассказываете… Даже не хочется отвлекаться. Вы выдержите без нарзана?
– Мне и самому не хочется прерываться, – согласился Ощепков. – Продолжим, пожалуй… Да, мой дед хорошо разбирался в людях. Это не сработало только в отношении моей матери. Она словно находилась в «слепом пятне» у него – он в упор не видел, какая она растет, на какой дорожке стоит. Он был уверен, что ее обрадует его выбор. Герасим Фомич был хорош собой, его родного брата, например, забрали по жребию в драгуны, и сам Герасим Фомич ему ни в чем не уступал ни статью, ни этакой мужественной красотой.
– Постойте! – Спиридонов подался вперед, утвердив на столешницу локти, как до этого сидел напротив него Ощепков. – Почему Герасим Фомич? Разве это не ваш отец? Тогда почему вы не Герасимович, а Сергеевич?
Уже задавая вопрос, Спиридонов вспомнил, что отец Ощепкова ему своей фамилии не дал и что фамилия его была Плисак. Но скорректировать вопрос не успел.
– Он не мой отец, – улыбнулся Василий Сергеевич. – Мой отец совсем другой человек, о нем я еще расскажу вам позже. Герасим Фомич – первый и единственный законный муж моей матушки, как видите, дед своего добился. Но для этого ему пришлось постараться изрядно. Вскоре сыграли свадьбу.
Но я не зря говорил, что характером матушка была вся в отца своего: дед мой не без усилий согнул ее, но долго согнутой оставаться она не могла. А распрямившись, способна была… Трудно и вымолвить, на что способна была моя мать.
В ночь со второго на третье сентября тысяча восемьсот восемьдесят третьего года в Оханске Пермского края случился пожар. Горел дом купца Герасима Ощепкова-Выдрина (муж моей матери взял фамилию тестя из уважения к тому и с полного его благоволения). Пожар потушили всем миром, но хозяина дома спасти не удалось: он угорел. Та же судьба едва не постигла и его дочь, Агафью Герасимовну, девочку спасли только чудом. Мать мою обнаружили лишь к вечеру следующего дня; она бродила в окрестностях городка, накинув на ночную сорочку зипун, и казалась совершенно убитой. Из ее сбивчивых объяснений выяснили, что, увидев огонь, она перепугалась и бросилась вон из дома куда глаза глядят. Пришла в себя поутру и поняла, что близкие ее погибли. От этого-де едва не помутилась рассудком.







