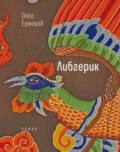Олег Ермаков
Голубиная книга анархиста
Валя слушала его, хлопая глазами и перестав пить чай. Вася осекся, поглядев на нее.
– Вот, лекцию тебе прочитал, – пробормотал он. – Понравилось?
Валя кивнула.
– Токо я не поняла, Фасечка, зачем тебе поваренная книжка? Ты кем работал?
Вася засмеялся.
– Все анархисты повара, – ответил он. – Коктейль Молотова любят подавать на подносе зажравшимся буржуям. Знаешь, что это такое?
Валя отрицательно покачала головой.
– Выпьешь – и крышу сорвет. Напрочь.
Валя напряженно глядела на него. Потом снова покачала головой и сказала, что не верит ему, не верит, что он может кого-то отравить или напоить таким зельем, как Наташка из Заднепровья, клофелином мужиков опаивала, тырила у них денюжку. Вася тоже всматривался в Валю, в ее крупные карие глаза.
– Ну и подружки у тебя, – пробормотал он. – Не, мое средство другое. Но тоже действенное. Слово. Да. Думаешь, из-за чего за мной гонится Собака Баскервилей Обло-Стозевно-и-Лаяй?.. Из-за слова.
Валя перекрестилась. Вася на нее уставился.
– Чего крестишься-то? Что я такого сказал?
– Про слово, – ответила Валя.
Вася некоторое время молчал и глядел на Валю.
– Ну слово… И что?
Валя пожала плечами и снова перекрестилась.
– Хых-хи-хи… Да не одно, правда, было, а много… На целую статью об экстремизме, зараза. – Он посмотрел на мобильник. – Э-э, уже пора к нашим ушастым друзьям-алисоманам. Да, Вальчонок, как только мы будем вне зоны Собаки Баскервилей Обло-Стозевно-и-Лаяй, я тебе мобилу-то сразу верну, не думай.
Валя покрутила головой.
– Нет, Фасечка, фоткай сны-то.
– Сны?.. Думаешь, это так просто? Тут даже с моей «Фуджи» не справиться.
Через день утром, когда они пришли забирать завтрак, Эдик велел им после обеда никуда не высовываться, печку не топить, на стук не открывать, да лучше он их снаружи запрет. На вопрос Васи почему, ответил, что сегодня праздник, международный женский день и на ферму прибудет сельскохозяйственное начальство с голодными авторитетами. А Вася с Валей никак официально не оформлены, и потому могут сразу возникнуть проблемы – на лишнюю полусотню кэгэ мяса в месяц. Вася тут же ответил, что все понял и со всем согласен, они будут, как партизаны.
Отвозя тачку с кроличьими отходами в дальний угол фермы, Вася заметил куст вербы, осыпанный мохнатыми почками с желтой пыльцой, и наломал веток. Валя первой ушла в вагончик, и он, поставив тачку возле шеда, последовал за ней. Войдя в вагончик, спросил, нет ли тут какой банки, вот поставить?
– Что это? – спросила Валя. – Ой, верба. – Она перекрестилась. – Но до Вербного воскресенья еще далеко?
Сегодня восьмое марта
– Сегодня восьмое марта, – сказал Вася. – Гражданский… то есть светский праздник. Вот. – И он протянул вербу Вале.
Та вытаращилась на него.
– Ой, что это?
– Ну букет, – сказал Вася. – Не розы, конечно, хых-хы-хы-хы-хи-хи-ха-ха…
Валя взяла прутья с изумленной растерянной улыбкой.
– Фася…
Вася Фуджи, ну а сокращенно Фася – все смеялся. Смех у него был какой-то потешный, но заразительный, интересный. И Валя тоже начала смеяться, сверкая белками глаз, краснея щеками.
– А мне розы и никто не дарил, – говорила она сквозь смех. – И вербу.
– А что дарили?
– Ну… один раз тюльпан.
Как только они начали обедать, явился Эдик и запер их на замок. Валя попыталась что-то ему сказать, но он уже ушел. Примерно час спустя послышался шум моторов. Валя, конечно, приникла к окну и стала комментировать.
– Хо-го! Едут. Гробы-тарантасы, иноземные марки. Раз, два, три… Ишь, ишь, так и сверкают. Однажды мне сон такой был… ужас. Какой-то вот дворец прямо, люстры там всякие, колонны, окна огромадные… И происходило там, мамочки, что-то такое… такое… Просто жуть. Кровопролитие. Кто-то кого-то избивал вусмерть. А потом топает какой-то такой… главный, а за ним его полицаи. Он такой высокий, лицо красивое. А у его подчиненных – ой: у одного лысая голова, как тыква, у другого подбородок, ровно требуха, болтается и выпученные глазья…
– Чего выпученные? – не расслышал Вася.
– Глазья. И вот этот главный останавливается перед одним таким мужчиной… ну вроде тебя, таким невзрачненьким…
– Хых!
– И да говорит ему, а что нам с тобой делать-то?.. А его сподручные орут: разодрать на куски, порубить! И этот начальник им отвечает так: нет, его – в печь. И того мужчину подхватили под белы рученьки да и поволокли к огромной железной печке. И он завизжал прям как поросенок, когда приходил к мамке сосед Жердяй с наточенным немецким штыком – бить его… потом опаливать соломой, лампой… И кричит: ай, ай, не надо!
– Кто?
Валя посмотрела на него.
– Ну не поросенок же, – проговорила с укоризною Валя и снова обратилась к окну. – А, вылазиют… Вон, господа… И бабы с прическами… У одного букет каких-то белых цветов. Хозяин их встречает. Наш Юрьевич. В кустюме. Ага, ага… А цветы, видно, его женке. Или дочурке. Смотрят, курят. Фоткаются. Уходят в дом.
– Ну и что с тем было?
– С кем с тем?
– Да которого в печку потащили?
– А!.. Ой, страсть, правда, я глядела ни жива ни мертва. Вот за что его так? И он как закричит, мол, стойте, стойте, есть ли у вас дети? Детки? Ну а тот командующий отвечает: а что такого, если имеются? И тот: я могу быть для них учителем начальных классов. И командующий вдруг сказал, что хорошо. И его отпустили пока. А лицо так и рдеет от печного жара-то. И поплелся он по залитому кровью полу, забился между колонн, в себя приходит, а я тут вроде рядом, все слышу. И к нему подходят две девицы, разговор у них завязался… И тут как подскочит человек с седой такой острой бородкой да как заорет: сесть-лечь-встать! Сесть-лечь-встать! И тот учителишка и давай ложиться, вставать, приседать. Вроде и смех. Но тут и ужас. Тот с бородкой: ты, говорит, обдолбался? Укурился? И заглядывает ему в глаза, пальцами веки оттягивает, заглядывает. А тот говорит, что и не курит, вроде тебя, мол, курил, но левое легкое заболело и прекратил. Тот с бородкой интересуется: а теперь болит? Нет. Перестало. И он, с бородкой ему говорит дальше: ты правильно сделал, что не убегал, а побёг бы – так тебя все равно Две Серые догнали бы. И отошел этот с бородкой. А учитель у девиц спрашивает: это, мол, кто такой-то? А они отвечают тихонько, что Начальник Мировой Стражи. И тут вдруг грохотанье. Я глянула в окно, а там кареты едут одна за другой, одна за другой, и лошади какие-то такие особенные, из какого-то вороненого материала, вот как эти машины. Правда, много больше, едут и едут. Это тот владелец с красивым лицом, хозяин дворца-то куда-то выезжал.
Валя замолчала.
– И что?
– И все, – ответила Валя.
– Ну и сны у тебя, Вальчонок, – сказал Вася. – Вот бы сфоткать. Куда там Сальвадору Дали!.. Мне тоже всякие занятные снятся.
– А это что за дядечка?
– Дали?.. Ну, один испанец с прибабахом, усы торчком, хвост пистолетом, рисовал пианино с девятью или десятью сияющими Лениными и все такое, как будто сны не сны или видения. Ему за это отваливали бабок порядочно. Но он все равно заканчивал жизнь в одиночестве, больной, парализованный, чудом спасся в загоревшемся замке.
– Как? – заинтересовалась Валя.
– Свалился с кровати и пополз к двери.
– А вот если наш вагончик загорится? – вдруг спросила Валя. – Будет чудо или нет? Как мы отсюда выскочим?.. И вообще… я уже хочу поссать.
Вася начал смеяться по своему обыкновению, приговаривая: «Вот дерьмо, зараза, попались».
– Давай разобьем стекло, – сказала она.
– Потерпи.
Еще примерно через час Валя сказала, что уже не может больше терпеть. Вася посоветовал мочиться в ведро и отвернулся.
– Но в нем же воду носим? – сказала Валя.
– Отмоем. Вон один писатель американец по системе йогов собственную мочу пил, и ничего. Затворник, буддист высоколобый.
И она присела над ведром, зажурчала звонко.
– А ты, Фасечка, не хочешь?
– Нет.
– Да перестань, не стесняйся.
– Сказал, нет.
– Ну, я не стану глядеть и уши заткну.
Вася засопел зло.
В вагончике уже было холодно. Они накинули на себя одеяла и сидели, как индейцы.
– Надо твой сон записать, – сказал Вася. – А то так и забудется. Интересно же. Но нет ни ручки, ни карандаша, зараза…
– А я нашла, есть, – откликнулась Валя. – В этом… шеде. Под окошком, на полочке. Вот, шариковая ручка. И пишет. На.
Вася взял ручку и достал из рюкзака рулон бумаги.
– Ты там будешь писать?
– Да, – деловито ответил он.
Но писать не давала пленка, которой бумага была оклеена. И тогда Вася ножом ободрал пленку с краю и, пристроив рулон на столе, действительно начал что-то писать.
– Ой, Фасечка, – бормотала Валя, – ну и ну. Вот бы наши все подивились, Мартыновна… Людка… Мои сны записывают.
Вася молча старательно выводил буковки на грубой бумаге.
– Ты прямо так все и пишешь? – спрашивала она, стараясь заглянуть.
– Не мешай, – буркнул он.
– Ой, ну не знаю даже… Я еще чего-нибудь вспомню. И новые буду все запоминать.
Когда наступили сумерки, Валя хотела зажечь лампу, но Вася остановил ее.
– А может, завесим окна одеялами? – предложила она. – Да и печку затопим, есть как раз дрова.
Вася ответил, что надо еще подождать. Ему тоже не хотелось никому попадаться на глаза… Начальнику Мировой Стражи.
– Нет, но классный был у тебя сон, – сказал Вася. – Мне уже кажется, что это я в нем и был, в твоем сне. И только сейчас об этом узнал. Хых! Хых… Мне должен был присниться такой сон. А приснился тебе.
– Следующий раз я получше буду приглядываться, – ответила Валя. – Так ты учитель?
– Ну, закончил сдуру пединститут, – откликнулся нехотя он. – Там с Никкором и познакомился. Только он после двух, что ли, курсов, свалил. А я остался.
– Фасечка, – проговорила озадаченно Валя. – А я тебя так кличу, без отчества. Нельзя же.
– Чего?.. Хых! Хых! Хы-хи-хи, – зашелся Вася.
– Нет, ты мне открой свое отчество, – настаивала она.
– Да ладно тебе!.. Хых-хи-хи…
– Ну Фасечка.
– Может, и отца у меня не было.
– Как так? – ахнула Валя.
– А что ты ахаешь? Ну? Ну? В вашей мифологии это возможно.
Валя хлопала в сумерках глазами, сверкала белками из-под одеяла.
– Не врубаешься? Ну, как это называется? Непорочное зачатие.
Валя быстро перекрестилась.
– Так то было чудо, – сказала она. – И голубь слетел от самого Отца. Голубь Святаго Духа…
И она начала напевать:
– Во славном было городе Вифлееме, / Во той стране было иудейской / На востоке звезда воссияла – / Народился Спаситель, Царь Небесный. / … – Тут она как будто съела слово. – …во убожестве приложился, / Во убогих яслях возложился, / Никто про его, света, не ведает. / Спроведали персидские цари…
И в это время на улице послышались громкие голоса, крики, смех и вдруг захлопали петарды, в вышине начали вспыхивать звезды фейерверков. Валя и Вася смотрели в окна. На их лицах мерцали отсветы.
– Совпало, – сказал Вася.
– Эти-то бесятся, – ответила Валя. – А пастухи и персидские цари ликовали.
Вася промолчал.
– И чего кричат? – продолжала Валя. – Не вешать ли и стрелять? Они и стреляют, обезьяны на джипах.
Покричав и порадовавшись фейерверкам, все снова ушли в дом. Но вскоре совсем поблизости от вагончика раздались голоса, мужской и женский.
«Какой-то сарайчик». – «Да». – «Пойдем туда». – «Нет». – «Почему нет?» – «Может, это хлев». – «Да нет, скорее какая-то подсобка… Ну-ка».
И кто-то подергал дверь, потом звякнул замком. Глаза Вали в темноте сверкнули.
«Закрыто, черт!..» – «Ладно… Прохладно. Пойдем в дом». – «Нет, нет… Давай… иди… ну…» – «Ах, перестаньте, Геннадий Иванович». – «Ну, ну… чего ты?..» – «Тут мокро, холодно, Геннадий Иванович… И вдруг кто-то придет?» – «Да ладно, козочка, ну иди давай, ты же козочка, а?.. Иди… юбочку так… так… ну… ну…»
На стену надавили.
«Геннадий Иванович… вы… вы… как же… Лучше уж в машину». – «Нет, на воле… нет, здесь… На природе… Люблю…» – «Так грязно… И холодно…» – «Это хорошо… хорошо… Она мать-земля… Давай, ну, давай, козочка… козочка».
Послышался нервный, но мелодичный смех. Потом кряхтение и ритмичное громкое дыхание. И тут Валя чем-то грохнула в стену. Наступила мертвая тишина.
– Что за хрень!.. – воскликнул придушенно мужчина.
– Кто здесь? Кто? – спрашивала женщина.
К окну кто-то приник. Валя накрылась одеялом с головой. Вася тоже.
– Ничего не видно, – проговорил мужчина.
– Пойдемте, пойдемте отсюда, Геннадий Иванович, пожалуйста.
– Я еще разберусь… что тут за бункер Гитлера.
Шаги удалялись. Все стихло.
– Вальчонок, – прошептал Вася.
– Чиво? – отозвалась Валя.
– Чем это ты?
– Поленом.
– Зачем?.. Нас могут найти, зараза, проклятье.
– Забоялася, что этот боров завалит дом.
– А если сейчас вернутся с факелами, фарами, прожекторами?
Валя молчала.
– Нет, я думаю, ты полная дура. А я дурак, что связался с тобой. Чего ты вообще ко мне прицепилась? Сидела бы себе спокойно в нищебродском скиту на горе посреди города. Давала Мюсляю. Генералу.
– Он старичок. И ничего я не давала…
Автомобили разъезжались поздно. В небо ударил еще один фейерверк.
И все стихло. Вася и Валя ждали, когда Эдик отопрет замок, но он не приходил. Валя зажгла лампу и начала возиться с дровами. Вася сидел неподвижно, потом не выдержал и пошел к ведру, ударил сильной струей. В вагончике пахло мочой. Вася отобрал у Вали нож и сам настрогал лучин, зажег огонь. Просохшие поленья быстро разгорались.
– Вот дерьмо-то, зараза, – бормотал Вася. – Сидим тут, сами как новозеландцы.
Валя прыснула в ладонь. Вася покосился на нее.
– А что? Так и есть, – говорил он. – Рлусские здесь как новозеландцы, в своей стране. Вся эта клика Россию и превратила в такой вагончик. Попы и чиновники построили себе рлай. Ну и капиталисты, конечно, лояльные к так называемому президенту, а на деле – обычному царю. Вот кому живется весело, вольготно на Руси. А остальные – новозеландцы в шедах. Сиди и жди, когда явится Эдик и умертвит французским способом, сдерет шкуру. Строили, строили, и наконец построили – Шед. Круто. Назло шведу, надменному соседу. Соседи тихонько строят капитализм с социалистическим лицом, ну а мы с грохотом и блеском – новый столыпинский вагон. Путинский. А на что мы еще способны? На что, Вальчонок?
Валя помалкивала. В вагончике стало теплее, и они улеглись на свои койки.
Чтение «Бхагавадгиты». Во время чтения всегда происходит что-то… Все искажается и куда-то обрушивается. Но в этот раз – все продолжалось.
Постучали.
Это были двое мужчин средних лет в строгих костюмах. Я понял, что надо выйти и следовать за ними, этими посланцами.
И мы летим. По воздуху, своими силами. Мысль о том, что если бы этот эпизод показывать в кино, то, конечно, лучше было бы лететь самолетом. Но здесь сам себе режиссер… Кто? Твоя внутренняя птица. И – раз, снялись и уже в воздухе. Внизу поля, деревья, в стороне деревня, дорога, высоковольтные столбы, всегдашняя преграда для полетов, но сейчас меня сопровождают ответственные лица, и проводов, гудящих от напряжения, можно не бояться.
Но мои сопровождающие вдруг по какой-то причине отстают, – отстали, и я сразу запутался в кроне высокого сухого дерева. И они меня потеряли. Из кроны я еле сумел выбраться, ветви твердые, как железо. Дальше простираются зеленые холмы, поля и серые воды, по волнам плывет корабль.
Лететь я почему-то уже не могу. Вот дерьмо, зараза… Пошел по земле. И выхожу… выхожу к монастырю? Монастырь католический, по-моему. Не знаю.
Легко попадаю внутрь, иду через помещения, галереи, затягиваясь сигаретой, через комнаты, в которых спят женщины. Монахини.
Вышел и снова узрел зеленые дали. Простор великий. Интересно, что это? Где? Италия? Испания? Или Россия?
Вижу женщину, она собирает хворост и приговаривает: «Как чудно разжигать огонь во вселенной. Как чудно разжигать огонь во вселенной».
И тут вывернулся откуда-то мужик в серой дерюге, подпоясанной веревкой, с всклокоченными волосами и бородой.
– Ты прощен в последний раз!
Так возвещает он.
Что? Кто? За что? Почему? Я не нуждаюсь ни в чьих прощениях, какого черта…
В вагончике было темно, где-то поблизости посапывала дурочка.
Снаружи храм какой-то чудной: колонны, каменные фигуры голых мужчин, – но внутри русская церковь, там все обшито резным деревом. Красота-а! Дверь за нами закрылась, музыкально прозвучала, как будто это шкатулка старинная. Дрлон-дзон-бом!
Удастся ли выйти? – беспокоится он.
А мне все равно!.. Как же тут хорошо.
Мы взялись за руки и немного покружились. Он спрашивает: а где же твое бальное платье?
Ха-ха!.. Бальное платье!.. Ой, мамочки, описаться можно. Да зачем?! И так хорошо.
Мы снова закружились.
А без одежды будет и еще лучше.
Мы стали раздеваться. В храме-то!..
Проснулись они поздно. Вася нехотя выполз из-под одеяла, позевывая, приблизился к двери, помешкал немного и толкнул ее. Дверь была закрыта. Он тихо заругался и взял топор.
– Ой, Фасечка! Ты чего это? Чего?! – вскричала Валя, протирая заспанные глаза, разгребая спутанные волосы, проглядывая сквозь них удивленно.
Вася молча рубил
Вася молча рубил дверь. Иногда лезвие попадало на гвоздь, и топор тонко взвизгивал. Вася рубил так, что во все стороны летели щепки. Наконец он сумел отделить доску с железным навесом от двери, и дверь открылась. Вася вышел наружу и вдохнул мартовский сырой воздух. Потом он взял ведро, снова вышел и, отойдя подальше, выплеснул содержимое на землю.
– Фася, затопи печку-то, – просила гнусаво со сна Валя.
Но он отвечал, что не надо пока, пусть проветривается.
– Холодина собачья, – канючила Валя.
Но Вася был непреклонен. Его лицо в веснушках было решительным и сосредоточенным, даже острый нос выражал целеустремленность. В сенях дома Эдика и его матери они столкнулись с самим Эдиком, всклокоченным, помятым. Он стоял в облаке крепкого перегара и бессмысленно таращился на вошедших, словно это были инопланетяне или новозеландцы.
– Бляха-маха, – пробормотал Эдик, морщась. – А я-то… совсем забыл… Но… как вы здесь оказались?
– Так, – ответил Вася, колюче глядя на него.
– Нет, кто вас… вам открыл? Ключ же у меня? У меня?
– Не знаю, – ответил Вася.
Эдик сделал движение рукой, как бы протирая изображение.
– Надеюсь, это не привет от белой горячки, – хрипло пробормотал он и пошел дальше, спустился по ступенькам крыльца, почесывая озадаченно шею.
Надежда Васильевна отдавала им контейнеры с завтраком, спрашивая, не мерзнут ли они в вагончике? Долго тепло от печки держится?
Вася после завтрака бродил вокруг вагончика в поисках досок, но ничего не обнаружил и решил позже посмотреть возле шедов или где-то на территории фермы, а в обед уже все заделать.
Когда они работали в шеде, пришел Эдик. Он сразу начал орать. Как смел этот бродяжка порубить дверь? Испортить такой отличный вагон? Дверь там была крепкая и ладная, холода не пропускала. Топи печку и живи королем, жуй крендель с маслом. Кто должен теперь это чинить? Рубить не строить?
Вася молчал.
– Чего молчишь?! – крикнул Эдик.
– А что с тобой говорить? – спросил Вася.
– Хочешь сказать, я тупой?
Эдика со злого похмелья разбирало. Он явно хотел почесать кулаки. Но тут в шед вошел сам Борис Юрьевич.
– Что у вас здесь за митинг? – спросил он хмуро.
Был он в брезентовой куртке, голова повязана косынкой из маскировочной ткани, щеки и подбородок чернели щетиной, веки подпухли, глаза красные.
– Это результат интоксикации, – заметил Вася.
– Ученый, твою мать!.. – воскликнул Эдик. – Посмотри, Юрьевич! На этого гастарбайтера.
– Ладно, что стряслось, – без вопросительной интонации проговорил Борис Юрьевич, слегка морщась.
– Да он взломщик! – крикнул Эдик. – Порубил нахрен вагон.
Борис Юрьевич посмотрел на Васю с некоторым удивлением.
– Даже так, – сказал он.
– Ой, ну вот зачем так-то наговаривать на человека? – подала голос Валя. – Вы, дяденька, закрыли нас на замок, даже поссать не выпускали! Почти сутки-то!
Борис Юрьевич обернулся к Эдику.
– Ну запамятовал, – отвечал тот, хлопая себя по шее. – Задурился вчера с авторитетами.
– И что? – спросил устало Борис Юрьевич.
– Утром Фасечка дверь и прорубил, – сказала Валя. – А то бы я там и насрала.
Борис Юрьевич засмеялся.
– Горшок, что ли, у мамки попросить?! – выпалил Эдик. – Устроили тут детский сад, мля.
– Дяденька, это вы нам устроили каталажку, – возразила Валя. – Как новозеландцам.
– Кому? Как кому? – спрашивал Эдик и даже ладонь к уху прикладывал, чтобы лучше услышать.
– Новозеландцам, – ответила Валя, враждебно поглядев на него, а потом кивнув на клетки.
– Это вы-то новозеландцы? – спрашивал Эдик, щуря синие глаза в белесых ресницах. – Юрьевич, мне тут анекдот припомнился… Встретили Петька с Василием Ивановичем осла, Петька говорит: не пойму, то не корова, не лошадь, уши вона какие. Чё за зверь-то, Василий Иванович? Тот ему: ну кролик это, только очень старый, судя по яйцам.
– Значит, и вы, – ответила Валя.
– Чего? – спросил Эдик.
– Фасечка говорит, да у нас все новозеландцы.
Эдик обернулся к Борису Юрьевичу.
– Слыхал, Юрьевич?.. Эти гастарбайтеры – ох не просты, а с умыслом! Куда метят!
– Ладно, Эдуард, успокойся, – сказал Борис Юрьевич. – Здесь ты сам виноват, что забыл. Надо дверь починить.
– Я? Этим бродяжкам? Бомжам? Пятому элементу?
– Почему… пятому? – не понял Вася.
– А потому, – не унимался Эдик, похмеляясь злыми словесами. – Там таких безродных ослов и показывали, смотавшихся на другую планету. Может, и вы хотите? Ну, раз не нравится? Раз новозеландцами себя ощущаете? Давайте, валите. Может, в Америке будете пиндосами, а не кроликами, что еще хуже.
Борис Юрьевич снова просмеялся, впрочем, как-то невесело, жестко, уныло.
– Я и сам дверь отремонтирую, – сказал Вася. – Только инстрлумент нужен, доска хорлошая, гвозди.
– Найди ему все, – сказал Борис Юрьевич Эдику и вышел. – И пойдем со мной… подлечиться надо.
Эдик тут же просиял и, позабыв обо всем, устремился следом.
– Хых! Ха-ха-хи-хи-хи, – засмеялся Вася. – Вот кому лечиться уж точно позарез нужно. Дебил натуральный. Вместо мозгов вата.
Валя вздохнула.
– Он, Фасечка, затурканный просто, ему отдохнуть надо, уехать куда.
– …в Новую Зеландию! – выпалил Вася.
– Ну нате, нате, – говорила Валя, насыпая корм в миски, – ослики новозеландские, недокормленные…
– Хыхыхх-хы! – смеялся Вася.
– И как же они вас есть могут? – сетовала Валя. – Ушастенькие вы мои. Ослики печальные.
Кролики молча слушали ее, поводя мягкими ушами, сверкая белками круглых загадочных глаз.
Вася все смеялся. В конце концов он заразил своим смехом и Валю. И, отсмеявшись, она запела:
– Трудничкам-рабам Христовым / Попаси вам… – Тут она на миг прервалась, как бы съедая слово, – Фрол-то ваших лошадок, / Василий ваших коровок, / Настасья ваших овечек, / Василий свинок, / Никитий ваших гусяток, / Сергий ваших утяток, / Варвара ваших куряток…
– Ну? Ну, Вальчонок? А про новозеландцев нет? – спрашивал Вася.
Валя улыбалась.
– Не-а. Там дальше про Егория: «Святой Егорий в поле сам он отпущая-а-а… А в дом принимая-а-а». Одних – на волю, других – в дом.
– Так спой сама про новозеландцев, – посоветовал Вася.
Валя подняла брови.
– Как? Это же песня устоявшаяся. Мартыновна говорила, у них в деревне, когда она еще малой была, такую пели.
– Ну и что? Новые времена – новые песни, – отозвался Вася. – Вот пусть Егорий их и отпускает.
– Кого?
– Да новозеландцев – в поле. Или в море.
Валя упрямо покачала головой.
– Нету такого в песне.
– Так будет, – сказал Вася.
Валя посмотрела на него и ничего не ответила.
Оживший Эдик принес доски, инструменты и все положил в вагончике. Вася в обед взялся за ремонт, бурча, что так тут и принято: сами себе столыпинские вагоны ладят новозеландцы. Валя ответила, что это же для тепла, да и какой же вагон без колес? Никуда не уедет. Вася, вжикая ножовкой, сыпля опилки, возражал, что колеса дело плевое. Стоял-стоял столыпин на запасном пути – и вот его модернизируют и опа, наш паровоз, вперед лети, в ГУЛАГе остановка, другого нет у нас пути, в руках у нас листовка: восемьдесят пять процентов новозеландцев поддерживают и одобряют модернизацию столыпина, вперед, на Берлин! Спасибо деду за победу и лично президенту за новые победы над голландцами, хохлами и пиндосами в Сирии.
Валя восхищенно слушала.
Вася примолк, утомившись работать ножовкой, смахнул с носа опилки.
– Фасечка, ты так много знаешь, – сказала Валя. – Против кого ты все время говоришь?
– Да про Обло-Стозевно-и-Лаяй.
Валя поежилась.
– Ой…
– Еще бы, – согласился он, примеривая отпиленную доску к двери. – Чудище хитрое, изворотливое. Под предлогом защиты обирает новозеландцев, бодается рогом со всем миром, чтобы еще страшнее было.
– А у него рог есть?
– А как же.
– Один? – уточнила Валя.
Вася на миг задумался.
– Нет, тогда это будет единорог – зверь благородный, а этот зверь паршивый, вонючий, с прилипшим к шерсти дерьмом. Два у него рога. И два подбородка.
– Черт? – спросила Валя.
– Черт – детская выдумка против него. Нет, у него рога не параллельно, а перпендикулярно.
– Как это? – не поняла Валя.
– Так, – сказал Вася и приложил к носу одну ладонь, к ней вторую.
– Как у этого… ну… ну… такого… в панцирях… маленькие глазенки.
– Носорога?
– Да! – воскликнула Валя и захлопала в ладоши.
– Ну… может, чуть и смахивает, – сказал Вася, – но только настоящий носорог невиннейшее создание, а Обло-Лаяй – монстр выбивания денег. А что еще надо попам и министрам? Бизнесменам? Генералам?.. А носорогу ничего не надо, лишь бы не мешали пастись.
– Он травку кушает?
– Да уж не детей со старухами и прочей голытьбой.
– И ты… мы… от него убегаем? – спросила Валя.
Вася ничего не сказал, еще подпилил доску и принялся ее приколачивать к двери.
Солнце редко появлялось в небе, но снега все равно таяли, поля лежали уже темные, курились в полдень, а снег серел по оврагам да на северных склонах взгорков. Однажды Валя вошла в шед и сказала, что река двинулась. Вася пошел на берег смотреть. Точно, река вскрылась, как дивная вена, и по черной воде поплыли гипсовые обломки и куски ваты, бинтов. Это было выздоровление после затяжной нудной болезни холодов да снегов. Ноздри острого Васиного носа трепетали, ярко проступали веснушки, глаза пьяно синели. Он тихо посмеивался, посмеивался, пока не расхохотался в полный голос… Оглянулся.
Сон распахнулся внезапно синей морской водой. Простор, небо! Никаких тебе электрических проводов. Лети в любую сторону! И я ринулся над морем. Мчался стремительно, догонял стаи лебедей и сопровождал их, летел рядом и разглядывал увесистых белых напряженных птиц. Сворачивал к птицам помельче, куликам, уткам. В ушах звучала какая-то музыка. Можно было лететь в любую сторону.
Но вдруг я почувствовал тоску, какую-то тоску по берегу. И тогда направился к далекой суше.
Как жаль! Гармония невероятно свободного сна искажалась, все принимало какой-то карикатурный характер. На суше стоял американский полисмен, он охранял вход, над которым было написано: «Диснейленд». Туристы рассаживались по кабинкам. Соседи говорили о каком-то профессоре. К нему мы и собирались в этих кабинках на рельсах? Говорили, что знаменитый этот профессор сейчас оперирует женщину по имени… Диотима!
«Та самая Диотима, излагавшая свое учение красоты Сократу?» – спросил я у соседки. Старушка посмотрела на меня. Один глаз у нее был затянут кровавой пленкой. Она протянула программку. Там было написано: «От нравов он должен перейти к наукам, чтобы увидеть красоту наук и, стремясь к красоте уже во всем ее многообразии, не быть больше ничтожным и жалким рабом чьей-то привлекательности… а повернуть к открытому морю красоты и, созерцая его в неуклонном стремлении к мудрости, обильно рождать великолепные речи и мысли, пока наконец, набравшись тут сил и усовершенствовавшись, он не узрит того единственного знания, которое касается прекрасного… Прекрасное это предстанет ему не в виде какой-то речи или знания, не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в чем-то другом… а само по себе, всегда в самом себе единообразное…»
Я опустил руку с программкой.
«Что же получается? В море я по своему желанию повернул к берегу пошлости и никуда не взошел по лестнице иерархии красоты? Как досадно и печально!» – воскликнул я.
Моя соседка лишь посмотрела на меня и поправила шляпку.
«Но что же случилось с мудрой мантинеянкой Диотимой? Что за операция ей понадобилась?» – спросил я.
Женщина лишь вздохнула.
Вася мгновенно сейчас на берегу вскрытой, как вена, реки вспомнил свой сон и ударил себя по голове.
– Дерьмо, зараза! Болван! – заругался он. – Она же и была Диотимой.
И он принялся усиленно вспоминать эту женщину. Но лицо ее как-то расплывалось. Только затянутый кровавой пленкой глаз он и смог вообразить. Почему же не сфотографировал ее, эту легендарную женщину? Или сфотографировал?.. Нет, только лебедей и смог снять, и то уже не в полете, а опустившихся на воду.
– Нет, нет, – бормотал Вася, возвращаясь, – следующий раз я буду умней… – Он приостановился. – Вообще не поверну к берегу? К пошлому берегу… Но тогда бы я и не встретился с Диотимой? А зачем мне она? Если верить программке, то и надо было дальше следовать лебединой тропой. Дурак.
И он с неудовольствием смотрел на вонючие шеды, на вагончик, как будто мог бы и не вернуться сюда из своего захватывающего полета.
– Ты не помнишь, сколько мы здесь уже тусуемся? – спросил он Валю.
Та пожала плечами.
– Уже март заканчивается, – проговорил он. – Интересно, когда же нам заплатят? Река вон вскрылась. Пора готовиться. Расслабляться нельзя. Обло-Лаяй рыщет. Никкор в любой миг может следаку все рассказать… Ну, указать направление, раскрыть план. И тогда на границе они перегородят речку сетью. Дерьмо, зараза. Ты еще не передумала, Вальчонок?
– Чего?
– Ну уходить из этих мест, из этой страны.
Валя сдула локон со щеки и кивнула. Но потом поинтересовалась, как же они попадут в заграницу, если у них нету никаких бумаг, документов, паспортов?
– Как, у тебя нет загранпаспорта?! – воскликнул Вася.
Валя растерянно глядела на него.
– А русский? – спрашивал Вася.
Она развела руками.
– Как еще тебя Обло-Лаяй не схватило за шкирку?.. Не переживай, Вальчонок, у меня тоже бумажки нет, вот, только рулон стыренный с нашими снами. И нам нужна лишь лодка. Это наше паспортное средство, хыхы-хы-хы…
– А Мюсляю паспорт не дадут для заграницы? – спросила Валя.
– Да у него, наверное, тоже нет никакого документа? Кто ж ему даст заграничный.
– А по реке он может?
– Откуда он узнает? Рек много. И дорог тоже.