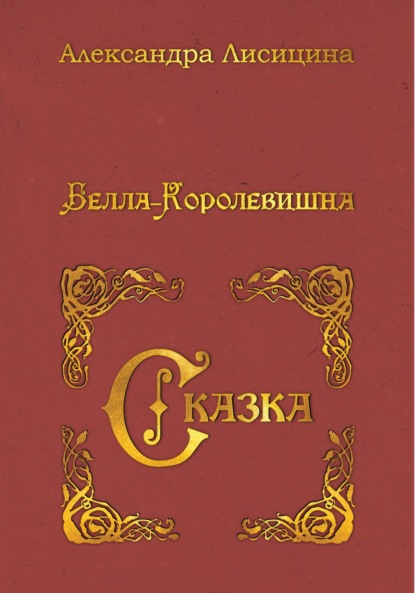Полная версия
Полная версияПолная версия:
Александра Лисицина Гарпия
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александра Лисицина
Гарпия

Там, на берегу реки, в солнечной долине, раскинулся многолюдный и яркий город. Благоухающие нежными цветами улицы полны спешащих куда-то людей, крашеные разноцветные заборы – нежащихся на солнце котов, а красные крыши – жирных птиц. Но для неё непостижимы эти цвета и оттенки: она видит мелкие, но отчётливые красные пятнышки с сочными бьющимися сердцами на серо-белом фоне.
Раньше, так давно, что на это не хватает памяти, она могла летать. Ветер залихватски свистел в её длинных блестящих перьях, и упругое тело обнимали тёплые воздушные потоки.
Можно было бы сказать, что её мучили воспоминания, но это, скорее, было эхо памяти. Какие-то чувства продолжали томить и терзать её изменившееся нутро. Иногда на грани сна и яви ей виделось лицо с тёмными карими глазами, в которых она видела себя. Совсем не ту, что глядела сейчас страховидлом из луж: гротескный клюв на маленьком скрюченном личике. Там, в отражении, она улыбалась полными губами, шуршала пушистыми перьями рук-крыльев и, по-птичьи наклонив голову, любовалась владельцем тёмно-карих глаз. Ей чудились нежные пальцы, гладящие её оперение, и ласковые, обещающие слова. И там её сила творила чудеса: влюблённая юная гарпия расплёскивала её вокруг себя, даря тому единственному, ради которого она готова была лететь к солнцу и обратно.
Эти сны неизменно кончались кошмаром: ласковые руки переставали гладить её крылья, тёмные глаза отдалялись, и куда ни посмотри – со всех сторон появлялась решётка. Злые прутья, напитанные её же силой, работали против неё, не пуская на свободу. Она металась в тесной клетке, кричала и плакала, превратив любовь в ненависть, а здесь, в гнезде у каменного круга, старая гарпия скрипела во сне клювом, сжимала и разжимала когти и просыпалась с хриплым скрежещущим криком.
Теперь изменилась до неузнаваемости. Крылья потеряли остатки своего тусклого оперения, закостенели. Ненависть исказила симпатичное лицо, превратив его в маску кошмара.
Она потеряла счёт дням и зимам: куда-то исчезли все её родичи, покинув родные леса, а иные легли на землю и не откликались больше на хриплый зов последней из своего рода.
Старые её кости изогнулись, променяв восторг полёта на хруст глоток под пальцами. И было короткое сытное время, полное мести, пока проклятые сочные человечки не стали обходить стороной её лес, оставив попытки избавиться от несущего смерть чудища у древнего круга камней у дороги.
И она стала голодать.
Приходилось поджидать редких путников у дороги, далеко от гнезда, но она не могла наесться. Случалось перебиваться гадкими сухими белками и другими зверями, имён которых она не знала. Некогда тугие и гладкие мышцы иссохли. Вторя щёлканью и клацанью голодного клюва скрипели суставы. Полёт перестал быть даже воспоминанием, затерявшись клубком пыли на задворках мелкого черепа. Найдись кто-то, кто осмелился бы взглянуть на неё, он сказал бы, что это просто старость.
Но сама она была не в силах это осознать.
И продолжала, скрипом и хрипами приветствуя тучи, точить свой серп на мелкие красные пятнышки, такие недоступные в залитом солнцем городе.
Неожиданно судьба или удача преподнесли подарок: жарким днём, когда всё живое прячется как можно глубже в тень, скрипучая повозка остановилась у каменных истуканов. Старое чудовище почувствовало давно забытый запах. Неслышно пришло на него, скрываясь за широкими стволами. Два сочных красных пятна сползли с повозки и отправились прочь – к журчащему ледяной водой источнику на той стороне дороги.
Откуда в этом старом теле и скудном разуме взялась сила воли, что заставила не броситься на жертв, а зарыться в тряпьё повозки, она не думала – не могла. Но точно знала, что когда они доберутся до города, придёт страшная чёрная гроза, ливень встанет стеной и скроет её от глаз людей.

Отчёт о расследовании убийств в городе Слиабане
Я, Бансар Гарчик, рыцарь ордена св. Литке, расследователь замка Равнинных врат, в конце осени сего года направлен командором в город Слиабан для выяснения обстоятельств серии загадочных убийств, в результате которых погибло шестеро местных жителей и пятеро рыцарей ордена.
В город я прибыл в одиночку в начале недели и сразу же отправился в местное расположение ордена. Командует здесь Меран Бента, который заботливо предоставил мне комнату-кабинет и обеспечил всем необходимым, начав, естественно с материалов по делу о так называемом Слиабанском Кровопийце.
Список предоставленных документов находится в Приложении к данному отчёту. Тщательно изучив эти документы, я решил, что полезно будет осмотреть места преступлений: район складов на севере Слиабана и жертвенный камень у тракта, проходящего к югу от города и ведущего в сторону Равнинных врат.
Тщательно обследовав район складов Слиабана вообще, и переулки, где были совершены нападения, я, как и следовало ожидать, не обнаружил ничего нового. Во-первых, с момента происшествий прошло больше двух месяцев, а во-вторых, мои предшественники провели хорошую работу и собрали все улики и свидетельства и так подробно описали места преступлений, что не представляло труда узнать местность и воссоздать в воображении картину последствий нападений.
Гораздо более интересных результатов я достиг, направившись на следующий день за пределы города к жертвенному камню, неоднократно упомянутому свидетелями. Он представляет собой обветренный гранитный валун чуть больше половины человеческого роста с небрежно выбитой на верхушке выемкой. Когда я пришёл к нему, в ней лежала горсть красных ягод.
Перед камнем стояла заплаканная женщина и что-то неразборчиво бормотала. Я поинтересовался, могу ли я чем-то помочь, в ответ на что получил совершенно несоответствующую моему невинному вопросу отповедь о деятельности ордена светлячка (как в простонародье называют орден св. Литке из-за изображённого на флагах светлячка) вообще и обо мне и моих предшественниках в частности. Смысл её слов сводился к тому, что мы вмешиваемся не в свои дела и порядки, в которых ничего не понимаем. Также эта женщина сообщила в весьма эмоциональной манере, что по милости ордена Слиабан остался без покровительницы. Тогда я смело предположил, что речь шла о той самой ведьме, помощью которой, как известно, пользуются жители данного города, и которой некоторыми моими братьями приписывались совершённые зверства. Как показали дальнейшие события, я оказался прав.
Я попытался продолжить разговор, поинтересовавшись, что это за ягоды лежат на камне, но женщина развернулась и ушла в сторону города. Именно тогда, как мне кажется, ветер принёс запах застарелого пожарища и, движимый любопытством, я решил осмотреться.
За камнем в сторону юга уходит овраг, по правую руку от него тянется почти до горизонта поле, по левую же находится довольно высокий, поросший густым лесом холм с отвесными северной и западной сторонами. Запах гари мог идти только оттуда. Около часа мне потребовалось, чтобы найти путь на вершину, так как тропа (если это можно вообще назвать тропой) то и дело пересечена трещинами и уступами. Довольно близко к вершине я обнаружил первое, изрядно присыпанное снегом, тело. Оно принадлежало женщине, как впоследствии было установлено, жене хозяина кабака в Слиабане. Женщина погибла, разбившись о камни, когда сорвалась с верхней точки холма. Тело лежало здесь, судя по всему, довольно давно. Считаю, что мне очень повезло с морозной погодой.
Следующее тело я обнаружил двумя уступами выше: огромный мужчина с сильными руками и в фартуке кузнеца. Голова его была практически полностью отделена от тела, на камне остался след от удара клинка, из чего я сделал вывод, что удар был нанесён по лежачему человеку. Бегло осмотрев то, что осталось после работы воронов, я предположил, что этот человек, спасаясь от вооружённого противника, упал с обрыва и после этого уже был убит путём отсечения головы.
К сожалению, на этом мои горестные находки не окончились: на вершине холма стоял выгоревший остов маленького дома. На небольшом расстоянии от него лежали тела в одежде ордена. Впоследствии установлено, что это судья-дознаватель Намус Грод и один его помощник. То, что осталось от второго солдата, изрядно обгорело и еле угадывалось на остывших углях. На первых двух телах видны колотые и резаные ранения, в результате которых эти люди скончались.
Стараясь не затоптать возможные улики, я обошёл пепелище, которое в лучшие дни, видимо, представляло собой небольшой двухэтажный дом с каменной печью и хозяйственной пристройкой. Печная труба осталась целой, крыша и межэтажное перекрытие обвалились и завалили то, что осталось от первого этажа. Всё это также было довольно сильно присыпано смёрзшимся снегом, который затруднял осмотр.
Также в глаза мне бросилась разобранная часть пожарища и собранный из обгорелых досок навес, который рухнул уже значительно позже. Под этим навесом я обнаружил тело в очень странном иссушённом состоянии, полностью почерневшее, но причиной этому был не огонь. На теле виднелись остатки рваной, поношенной одежды.
Самой главной находкой я считаю журнал, завёрнутый в непромокаемую кожаную обложку, который сжимал в руках этот почерневший труп.
Содержание этого журнала я подробно и тщательно изучил и сопоставил с прочими имеющимися в моём распоряжении документами и сведениями и пришёл к выводу, что содержащаяся в нём информация бесценна в деле расследования убийств, совершённых в Слиабане в начале осени.
Автору дневника повезло (если позволительно так сказать с учётом всех событий) приблизиться к разгадке тайны Слиабанского Кровопийцы, но не удалось победить в борьбе со злом. Именно благодаря его работе мною составлена более или менее достоверная картина произошедшего. Содержание этого журнала, дополненное прочими документами по делу и снабжённое моими комментариями, я привожу ниже практически полностью, за исключением некоторых неподобающих данному отчёту личных подробностей.
Отчёт о нахождении тел на холме в Приложении № 4
(прим. составителя Б. Гарчика)
Дневник Йогена
Первый листок вырван из конца дневника и вложен в начало. Текст написан довольно корявым неоднородным почерком, менее аккуратно, чем весь дневник в целом, но гораздо более твёрдо, чем последняя страница.
(Прим. составителя Б. Гарчика)
В том, что произошло с женщиной, которую мне довелось знать как Кирхе-Альму, я виню себя и только себя. Именно по той причине, что ей пришлось лечить мои раны, полученные по глупости, она растратила большую часть своей необычной силы и не смогла больше отводить людские глаза от своего дома на холме.
Сейчас, когда я стою на пепелище её дома и знаю, что без её помощи жить мне осталось от силы пару дней, я считаю своим долгом закончить историю о том, что произошло со мной в Слиабане, и кто на самом деле стоит за жестокими убийствами конца лета этого года.
Однако сразу скажу, что людей, безжалостно сжёгших дом на холме вместе с его хозяйкой без суда и следствия, убил я – всех шестерых, и не жалею об этом. Я не мог отпустить их после того, что они совершили: мои орденские братья (судья-дознаватель Грод с двумя помощниками), кузнец из Слиабана, чья сестра погибла в конце лета и стала первой жертвой, жена кабатчика, потерявшая ребёнка и обвинившая в этом Кирхе-Альму, и Ситтэль – менестрель, который в начале этой истории готов был на всё, чтобы завоевать сердце Кирхе. Все они умерли здесь, на жарком ещё пепелище её дома.
Здесь умру и я.
Но сначала запишу всё, что смогу, насколько хватит сил.
День первый
Неожиданно тёплым для этого времени осенним днём мы с Ютером въехали в Слиабан, изображая из себя беспечных путешественников, и весьма преуспели в этом. Это был канун какого-то местного праздника – не то осени, не то урожая, нам было не особенно важно. Безветренный уютный вечер объял мирный город разноцветными огнями, яркими венками из осенних листьев. Город сочился предвкушением праздника. Особенно хорошо это ощущалось в забитом до отказа подвыпившими горожанами общем зале гостиницы, в которой мы остановились: невзирая на вполне определённую миссию, в расположении ордена мы не показывались, чтобы не разрушать нашу легенду.
Свободная комната оказалась только одна, не то чтобы очень тесная, но и просторной её не назовёшь. После долгой дороги я, утомлённый храпом Ютера, конечно, мечтал спать отдельно, но что поделать. Оставив вещи, мы отправились вниз, намереваясь плотно поужинать с дороги.
Впоследствии, возможно, многие подробности окажутся не имеющими отношения к делу, но я всё равно предпочитаю записывать всё: кто знает, какая деталь в будущем окажется полезной.
Мы с большим трудом пробились сквозь гудящую толпу к стойке, чтобы сделать заказ. Пришлось здорово поработать локтями, а Ютер буквально в последний момент успел перехватить чьи-то не очень чистые пальцы и едва не лишился кошелька. Конечно же в такой тесноте никакие крики «Держи вора!» и «Грабят!» не помогли понять, кто это был. В тот момент я подумал, что скудная однообразная еда у костра вовсе не так уж плоха.
Дожидаться своего ужина мы отправились на веранду, где было если и не намного свободнее, то уж точно свежее. Сидя за буквально отвоёванным столом, мы гадали, найдут ли нас девчонки с тарелками, а если и найдут, то какая часть еды доберётся до нас в конечном итоге.
Каждый разведыватель знает, что такая тьма народа – не только неудобство и шанс остаться «без штанов», но и отличное место для «рыбалки». Можно просто сидеть и ничего не делать, а сведения и слухи сами идут косяками в сети.
– Слиабан – это рай! – сказал я Ютеру.
– Я посмотрю на тебя завтра, – хмыкнул он мне в ответ.
– Завтра у тебя будет чем заняться, вместо того чтобы меня разглядывать.
Праздник праздником, а работу никто не отменял.
Но тогда вечером был тот блаженный момент, когда работа ещё не началась и можно провести время в своё удовольствие.
Стараясь игнорировать голодное возмущение в животе, я прикрыл глаза и весь стал слухом. Когда я брал свои первые уроки в каменных кабаках Нааса, поначалу меня хватало на несколько минут: дальше я путал и забывал всё, что услышал, и выходил на улицу с больной головой. Сейчас же я мог не один час плыть по течению разговоров, перетекая с одного на другой или запоминая две-три нити сразу. И раем Слиабан я назвал отнюдь не за красивый внешний вид и всепоглощающее ощущение праздника. За то время, пока мы с Ютером продирались на веранду сквозь весёлую толпу, я успел узнать, что Байдур-столяр уже надрался, едва не оттяпал себе палец и завтра пропустит всё празднество. Вместе с дуновеним ещё по-летнему тёплого ветра принесло слух о какой-то бабке на окраине, у которой выросла такая большая тыква, что та решила разрезать её прямо на грядке, залезла в плод целиком, а потом не могла выбраться из скользкой мякоти и так бы и осталась там, если бы её не заметили соседские дети. Некая Басери вот-вот родит, а дочь высоченного красноносого мужика (судя по запаху, кожевенника) ждёт не дождётся завтрашнего выступления какого-то менестреля, в то время как сам обладатель багрового носа скорее опасается за невинность дочери в связи с прибытием этого самого «бренчалки-рифмоплёта».
Я открыл глаза: сумерки сгустились, зелень заката почти почернела. На фасадах позажигали факелы, в окнах и в разноцветных фонарях – свечи.
Вместе с наступлением темноты перешли к печальным новостям. Рыбный обоз из Озёрного края задержался, и в этом году тамошней копчёной рыбы на празднике можно не ждать, не то что в том году – ого-го, сколько её было!
А ещё все знали о скором прибытии судьи-дознавателя, его и боялись, и одновременно надеялись, что ему удастся найти Слиабанского Кровопийцу, – неожиданное для меня известие. В ордене старались сделать всё, чтобы ни один слух не просочился за врата замка, а здесь уже гадали и делали ставки, когда точно он прибудет, лыс он или нет, толст или тонок, и будут ли сопровождать его прибытие гром и молнии – ха-ха-ха, верят в своего Уль-Куэло, как дети малые.
Если бы эти насмешники видели и знали то, что видели и знали я и мои братья по ордену, им даже не пришло бы в голову смеяться над именем Уль-Куэло, последнего бога среди людей. Но тем и сильно наше братство, что мы рано или поздно донесём свет знаний до самого отдалённого уголка мира. Вера моя крепка.
За весь вечер ни слова я не услышал о ведьме и был этим здорово разочарован. А ведь в том числе и по её душу должен прибыть судья-дознаватель на уже подготовленную нами с Юретом почву. Отдельно наш наставник упирал на то, что скорее всего ведьма и Кровопийца – это одно и то же лицо.
– Эй, взгляни, – напарник оторвал меня от одновременного прослушивания всех этих разговоров. – Такое зрелище пропускаешь!
Я проследил за его взглядом и увидел посреди площади прямо-таки эпизод из дешёвенького спектакля: пылкий юноша пытается вернуть расположение хорошенькой девушки.
Он дарит ей цветы, преклоняет колено, что-то вдохновенно говорит, а она, как и положено в таких сценах, возвращает ему букет, разворачивается на каблуках, взмахнув юбками, и уходит за кулисы.
– Жалко парня, – посочувствовал Ютер неловко поднимающемуся с колена юноше.
Мне, в общем-то, дела не было ни до него, ни до его дамы сердца, ни до того, что там у них произошло. Я пожал плечами и принялся за ужин, который наконец-то добрался до нас буквально по головам.
Сейчас я сижу в нашей тесной комнатушке и при свете орийского фонаря пишу эти строки. Ума не приложу, как я засну под рулады, которые во сне выдаёт храпящий Ютер!
10 октября
День второй
Погода не подвела – было ещё теплее, чем накануне, и небо сплошь весеннее, совсем не соответствующее осеннему пейзажу вокруг. В таких условиях, пожалуй, сложнее чем обычно сочетать работу и роль беспечного путешественника, которую я продолжал играть.
Гостиницу с Ютером мы покинули по одиночке, как условились заранее. Ему выпало толкаться на ярмарке, продолжая слушать, и за выпивкой выводить разговоры в нужное русло. Последнее у него, в отличие от меня, получалось замечательно. Конечно же, обильные возлияния не приветствуются в ордене, но в случае с Ютером делалось исключение: он великолепно справлялся с работой. Мой друг детства и напарник обладает одной несомненной способностью: он может выпить, кажется, целую бочку и остаться практически трезвым. Что до меня, то я для этого никогда не годился – хмель очень быстро ударяет мне в голову, и на следующий день чувствую себя из рук вон плохо.
Сегодня же мне предстояло якобы праздно шататься по Слиабану, обойдя все три интересующих нас места нападения. Я отлично влился в похмельную толпу: гудящий всю ночь под окнами народ совершенно не дал выспаться, голова раскалывалась, и я снова с тоской вспомнил ночёвки в лесу у костра.
Северные кварталы Слиабана разительно отличаются от южной части. Каменные здания, нарядные фасады, разноцветные стёклышки в окнах – всё это осталось за спиной, кольцом расположившись вокруг главной площади, где с самого утра уже вовсю гремела осенняя Слиабанская ярмарка. По мере того как я продвигался на север, улицы сузились, деревянные некрашеные дома, потемневшие от времени и сырости, обступили со всех сторон, нависая над прохожими своими пузатыми вторыми этажами. Несколько раз сверившись с картой, я добрался, наконец, до складских помещений.
Это, конечно, город в городе. Здесь стоит довольно сильный стойкий запах рыбы, кож и ещё какой-то кислятины. Я добрался до дома, задворки которого на моей карте были обозначены крестом с цифрой «один». Первое нападение.
Материлы по делу я прочитал и буквально выучил наизусть ещё по дороге в Слиабан.
Отчёт Аброка Капендуса, главы городской стражи Слиабана об обнаружении трупа в складском квартале
6 сентября утром на заднем дворе дома № 18 по 6-й линии (используется в качестве товарного склада, принадлежащего купцу Одуму Крагену), работником склада найдено женское тело. Опознано как Ааби Бруш, сестра кузнеца Марца Бруш. Жертва обнаружена лежащей на спине ногами к задней двери склада, головой к калитке, ведущей в проулок между аналогичными складскими помещениями. Голова запрокинута назад. Правая рука закинута за голову и не повреждена. Левая прижата к туловищу. Ноги слегка согнуты в коленях и повёрнуты вправо.
На теле жертвы обнаружены множественные резаные раны и следы от неизвестного зубчатого оружия, указывающие на тип воздействия, аналогичный сдавливанию и выдёргиванию давившего элемента. Вырваны куски плоти с плеча и груди (одним движением) и левого бедра. Поверхность воздействия неизвестным оружием/инструментом около локтя в длину. Учитывая то, что следы свидетельствуют о том, что зубцы совершенно не заострены, потребовалась недюжинная физическая сила, чтобы нанести следы такого характера.
Грудная клетка и брюшная полость жертвы вскрыта, отсутствует часть левого лёгкого и сердце.
Края резаных и рваных ран стянутые и почерневшие, покрыты чёрной слизью неизвестного происхождения.
На земле вокруг нет следов борьбы, так же как и отсутствуют какие-либо следы нападающего.
Городским медиком Билленом Гаструпом проведено исследование тела, основным выводом из которого является использование неизвестного яда, и явившегося, по всей видимости, причиной почернения ран.
– А у вас тут миленько, – пробормотал я, оглядывая фасад искомого здания. Подёргал ручку – закрыто, как и ожидалось. В отчёте, кажется, описывался некий проулок позади этого ряда домов.
Пришлось обойти ещё несколько двухэтажных складов-близнецов с двускатной крышей и почти без окон. Тут же обнаружилась узкая и очень грязная тропка на зады.
Действительно, ко всем постройкам здесь прилагается крохотный кусочек земли. Все они обнесены разномастными, собранными из чего попало, заборами. Хотя до места обнаружения тела оставалось пройти ещё немного, я остановился здесь, осматриваясь. Нужно же было нападающему как-то подобраться к жертве, если не по земле. А здесь, хотя и было даже свободнее, чем со стороны улицы, но всё равно со всех сторон нависали вторые этажи и крыши. При желании, наверное, можно было добраться по ним. Вопрос, откуда. И зачем.
На самом дворе я не увидел ничего такого, о чём нельзя было бы прочитать в отчёте. И времени прошло уже предостаточно: если и были какие-то следы, то осенние дожди их уже давно смыли.
Я вновь сверился с картой. Если идти по улицам до места следующего нападения, то придётся сделать немалый крюк. Мне почему-то захотелось найти отсюда кратчайшую дорогу.
Несколько раз на моём пути вставали высокие заборы, и пришлось приложить смекалку, чтобы преодолеть эти преграды. Так, один раз, вынужденно забравшись на крышу, я обратил внимание, что по верхам гораздо проще преодолеть часть пути, чем скакать через бесконечные заборы и изгороди. В одном месте, там, где вплотную сходятся три крыши и их стыки образуют углубление, защищённое от ветра, среди кучки облетевшей листвы я обнаружил множество крупных, но довольно облезлых перьев стального серого цвета. На всякий случай взял одно на память и двинулся дальше.
Мне повезло, что все работники складов сегодня на ярмарке и некому обратить внимание на непрошеного гостя, шастающего по крышам частных владений.
Меньше получаса у меня ушло на то, чтобы добраться до нужного места, а если бы я сразу забрался наверх и не пытался прокладывать себе обычный человеческий путь, добрался бы значительно быстрее.
Итак, жертва номер два.
Отчёт о нахождении трупа в Приложении № 1
(Прим. составителя Б. Гарчика)
Работник гончарного склада, Люций Рент, 56 лет. Найден со свёрнутой шеей и множественными повреждениями под навесом здания, в котором работал. Скорее всего, жертва упала с крыши, получив смертельный вывих шеи, и уже позже была затащена под навес. У трупа не было кисти левой руки. На теле обнаружены множественные резаные раны, отсутствовала часть плоти на ногах. Также присутствуют следы, идентичные следам на первой жертве, оставленные неизвестным инструментом.
Протокол допроса хозяина склада, обнаружившего вторую жертву
– Я открываю лавку с девятым гонгом утром, и к этому времени Люций уже привозит тачку с новым товаром со склада. В тот день, 15 сентября, Люций не пришёл.
– Вы проявили беспокойство?