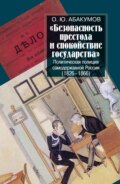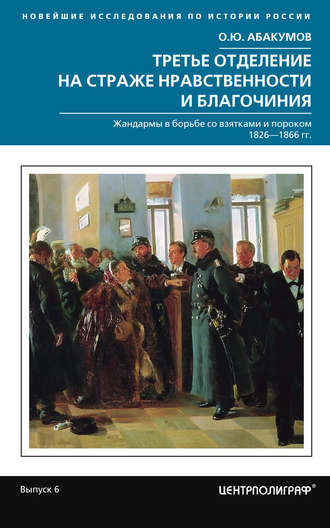
О. Ю. Абакумов
Третье отделение на страже нравственности и благочиния. Жандармы в борьбе со взятками и пороком. 1826—1866 гг.
Иногда личность дебоширов удавалось установить и затем сообщить служебному начальству о содеянном для принятия воспитательных мер воздействия. В одном агентурном донесении отмечалось, что 15 октября 1860 г. секретарь распорядительной думы Лапшин со знакомыми «были очень пьяны, ходили в шляпах и один из них часто ругался похабными словами и между прочим обругал управляющего тамошним кварталом штабс-капитана Новицкого, который хотел было его выпроводить, но когда Лапшин зазвал Новицкого выпить шампанского, то он оставил знакомого его в покое»[196]. Как видим, примирительный (или, точнее, попустительный) характер разрешения конфликтов был распространен, полицейские служащие готовы были закрывать глаза на поведение пьяниц, а хозяева и служители заведений оберегали своих пьющих завсегдатаев от административных неприятностей.
Пьянство было основной причиной постоянных конфликтов и происшествий (лето 1861 г.): «Не проходит дня, чтобы в гостинице «Орел», находящейся на Песках, в саду, где играет музыка, не было какого-нибудь скандала. Там собирается более публика окрестностей, но приезжают и известные кутилы, и много разного сброда. Один из наших агентов, которому велено посещать это заведение, доносит, что 7 числа бывший там в нетрезвом виде потомств[енный] поч[етный] гражд[анин] Самсонов, нанеся сперва многим гулявшим оскорбления, обругал, оплевал и побил приказавшего его отвезти в часть помощника надзирателя, подпоручика Глушановского, крича, что он богат, ничего не боится и всю полицию [от] какой-нибудь дряни помощ ника до самого главного – купит»[197]. Любопытно, что препровождаемый в часть дебошир с гордостью кричал глазевшему на него народу: «Я помощнику три оплеухи дал»[198]. Видимо, этот коммерческий способ разрешения конфликтов с полицией был вполне вероятен.
Другое важное обстоятельство заключалось в том, что, несмотря на усилия содержательницы гостиницы купчихи Бурениной и ее мужа замять скандал и добиться освобождения Самсонова, бывшие при этом посторонние лица не позволили это сделать, заявив, что если Самсонова, оскорбившего офицерский мундир, освободят, то они сами донесут об этом происшествии обер-полицеймейстеру.
Тот же полицейский агент, справно отрабатывая выданные средства, доносил, что «там же [в гостинице «Орел». – О. А.] из числа посетителей какой-то молодой человек, когда заиграли какую-то пляску, стал кривляться на все возможные манеры, окончив свои кривляния, он ни с того, ни с другого дал две оплеухи одному чиновнику ведомства путей сообщения, человеку уже пожилому, сидевшему очень смирно на скамье…»[199]. «Песенник» Яковлев не только не пошел за полицейским, как того требовала публика, но и помог скрыться дебоширу.
Самый желанный день крестьянского освобождения, который народная молва привязывала то к одному, то к другому знаковому дню календаря еще задолго до реформы 1861 г., должен был ознаменоваться не только царским манифестом, но и обилием водки. В сводке городских толков за 1 сентября 1859 г. отмечены слухи о вероятности манифеста к 8 сентября[200]: «В харчевне на Сенной площади большинство полагает, что 8–9 сентября будет продаваться дешевая водка, а на Царицыном лугу будет отпускаться по требованию гуляющих даром»[201].
Сообщая о настроениях нижних чинов Измайловского полка, агент отмечал, что, получив после смотра от императора по 50 коп. вознаграждения, солдаты были очень довольны. «В последний раз измайловцы просто плясали от радости за доброе царское слово, пошли с песнями с парада, а вечером носили ушатами водку в казармы, которую всю распили»[202], – свидетельствовал соглядатай. Отеческое слово императора к солдатам вызывало такой громадный прилив восторженного благодарения, которому соответствовали адекватные объемы напитков.
Предметом полицейского внимания были трактиры, рестораны и различные увеселительные заведения, где горячительные напитки в сочетании с вольными нравами создавали особую атмосферу раскованного общения. Особенно беспокоил блюстителей нравственности ранний возраст завсегдатаев: «Распущенность воспитанников учебных заведений доходит до крайних пределов. Известного сорта трактирные заведения, некоторые из публичных мест и гуляний только и имеют посетителей, что гимназистов и кадет. Там скрытно от родителей они предаются разврату и полному разгулу на свободе»[203].
Отмена откупов сделала потребление спиртного еще более доступным. По сути, о народном празднике, посвященном снижению цен на водку, свидетельствовал Ф. Д. Бобков, отправившийся 1 января 1863 г. на прогулку: «Подойдя к Никольским воротам, я увидел около кабаков целую толпу. Это праздновалась отмена откупа. По случаю удешевления водки набросились на кабаки и переполнили их. На Трубной площади опять толпа около кабаков. Из любопытства зашел в один. Оказалось, что все заготовленное заранее вино уже выпили и толпа ждет нового подвоза. Вот она, народная трезвость»[204]. 5 января он снова сетовал: «Вообще теперь весь народ, после отмены откупов, с утра каждый день пьянствует, и все улицы переполнены пьяными»[205].
Обнаруженные в архиве Третьего отделения агентурные донесения от 4 января 1863 г. показывают, насколько точно агенты фиксировали народные настроения: «Между тем народ вне себя от радости, что водка подешевела, и благословляет за это государя. Приезжие из Москвы рассказывают, что понижение цены на водку произвело там в первый день неистовый восторг, который превосходил даже радость в день объявления крестьянам свободы. Уничтожение откупов всюду ставят в уровень с освобождением крестьян, с тою только разницею, что в первом деле тотчас же ощутили благие последствия, то есть что народ, при употреблении прежнего количества водки, сберегает значительную сумму денег»[206].
Городская полицейская «хроника» полна примерами разных пьяных дебошей. 31 октября 1864 г. сообщалось: «Вчерашний день в кафе-ресторане «Германия» в Б. Конюшенной улице опять не обошлось без скандала: одна из бывших там женщин дала пощечину какому-то господину, а кандидат московского университета Федоров до того был пьян, что лежал на полу и его вынуждены были вынести на руках и облить водою, чтобы привести в чувство, при этом у него были украдены золотые часы»[207]. Общественная помощь ученому мужу оказалась не бескорыстной.
2 января 1865 г. агент доносил о новых деяниях «известного скандалиста» Соболевского: «На танцевальных вечерах появляется постоянно в нетрезвом виде, выпущенный в 1863 году из института корпуса путей сообщения поручик Соболевский, производящий почти всегда скандал. Так, будучи вчера у Ефремова, он ударил какую-то женщину в лицо за то, что она, проходя мимо его, улыбнулась»[208]. Немотивированная агрессия объяснялась невоздержанностью, привычкой к хулиганским поступкам.
Публичность проступков иногда способствовала общественному примирению ссорившихся. 30 мая 1868 г. очевидец сообщал: «Вчерашнего числа вечером у Излера некто Львов, поссорившись с сидевшею с ним за одним столом женщиною, ударил ее бутылкою шампанского.
Некоторые их зрители, увидевшие этот случай, заставили Львова помириться с оскорбленною им женщиною. Последняя не изъявляла особенной претензии – взяла с Львова за мировую 50 руб.»[209].
Задержание провинившихся полицией иногда приводило к неожиданным открытиям. 2 ноября 1864 г. шефу жандармов докладывалось, что «третьего дня в гостинице «Палермо» задержан был за неплатеж денег и буйство неизвестного звания человек, назвавший себя отставным юнкером Ипполитом Ивановым, служащим агентом в III отделении и посланным по секретному поручению»[210]. Это был самозванец, желавший под видом агента «всесильной» полиции обезопасить себя от ответственности за свои поступки. 19 ноября того же года по указанию агента Третьего отделения в кафе-ресторане Наумова был арестован полицией «молодой человек в партикулярном платье». Выяснилось, что он выдавал себя за другое лицо, украл у своей тетки 1500 руб. и «разыскивался полицией, у которой была даже его фотографическая карточка»[211], но полиция на него внимания не обратила, а агент Третьего отделения обнаружил преступника.
Размах пьянства начинал внушать власти опасение. 22 апреля 1864 г. В. А. Долгорукову докладывали: «В городе в течение первых трех дней праздника замечается необыкновенно большое число пьяных, которые при беспечности и слабости полиции производят безнаказанно на улицах шум и драку»[212]. Сетования на бездействие полиции лишь подтверждали серьезность проблемы. 7 декабря 1864 г. агент доносил: «Вечером заметно было лежащих на улице в бесчувственно пьяном виде много простого народа. Городовые и дворники оставались к ним совершенно равнодушными»[213]. Повальное пьянство даже в холодное время года никого уже не удивляло и не побуждало оберегать жертв Бахуса от обморожения и смерти.
Обеспокоенность городских властей положением дел была едва заметна. О безуспешных паллиативных мерах санкт-петербургской полиции докладывали шефу жандармов 6 марта 1865 г.: «На время настоящего поста обер-полицмейстер воспретил в танцклассах и кафе-ресторанах музыкальные вечера, имея в виду, вероятно, уменьшение скандалов, но если эта цель имелась в виду, то она не достигнута: например, в «Германии» также много пьяных и скандалов бывает еще более, ибо публике нечем развлечься»[214].
Довольно часто фиксировались случаи скандальных происшествий с участием военных. 25 сентября 1864 г. в жандармскую хронику попали сведения о компании приятелей во главе с кавалерийским ротмистром Дрипельманом, повеселившейся на танцевальном вечере у Ефремова: «После ужина господа эти вели себя крайне неприлично, лазили даже ногами по столам и, выйдя на балкон, мочились на тротуар»[215]. Затем ротмистр отказался заплатить по счету 47 руб., сославшись на то, что тех, кто был с ним, не знает, а денег не имеет. Закончилась история тем, что плац-адъютант увел его из ресторана и поместил под арест.
Другая компания военных веселилась непосредственно на улицах города. В донесении от 3 ноября 1864 г. сообщалось: «По некоторым сведениям есть вероятность предполагать, что разъезжавшие на тройке в ночь с 28 на 29 октября и выбивавшие в некоторых домах стекла были кавалергардского полка поручики Куракин и Васильчиков. Эти господа ведут себя вообще не совсем прилично в публичных местах»[216]. Скандальная репутация поддерживала интерес тайной полиции к таким лицам.
Если приведенные выше случаи можно было оправдать безрассудной молодостью, то некоторые проступки Третье отделение связывало с грубостью нравов. Так, донесение с военно-морской базы Балтийского флота полно пикантных подробностей: «На прошлой неделе в Кронштадте, в тамошнем цирке англичанина Борнса, один офицер, сидевший в первом ряду мест подле весьма почтенной дамы и ее дочери, будучи в нетрезвом виде, расстегнул брюки, вынул член и стал мочиться при всей публике, пуская очень ловко фонтан чрез барьер. Англичанин Борнс хотел его остановить и вывести, но офицер вымочил его всего. Подобные неприличные поступки могут, говорят, встречаться только в Кронштадте»[217].
Показательно, что именно такие формы эпатажа публики практиковали военные. Алкогольное состояние лишь высвобождало сексуальную агрессию, нереализованную маскулинность одинокой жизни.
Противостоять пьяному разгулу Третье отделение не могло, но наблюдать за поведением подвыпившей публики было необходимо. Снижение моральных норм, отсутствие «тормозов» (например, пьяная болтовня) могли привести к выплеску политически значимых сведений, обнаружению опасных для власти настроений, слухов. Можно предположить, что жандармское руководство с умилением могло читать донесения наподобие записки от 8 июня 1863 г.: «Вчера в публичном саду «Орел» (гостиница в рождественской части), где обыкновенно собирается очень разгульная и довольно грязная публика, играли народный гимн «Боже, Царя храни», при чем полупьяная и совсем пьяная толпа много рукоплескала»[218].
В то же время Третье отделение признавало рост числа дел, связанных с произнесением дерзких выражений против императора. Если в 1860 г. таких дел было 16, то затем их количество начинает увеличиваться: в 1865 г. – около 40, в 1866–1867 гг. – уже более 200, а в 1869 г. – 214[219]. В представленном императору «Обзоре деятельности высшей полиции за 50 лет» (1876) отмечалось: «Вообще […] дела этого рода большею частию не представляют особенного значения и не свидетельствуют о преступном направлении обвиняемых, а тем менее еще о намерении оскорбить Особу Вашего Величества: дерзкия слова произносятся весьма часто в нетрезвом состоянии, в припадке запальчивости и среди ссоры, при отсутствии полного сознания, а нередко без всякой мысли, единственно по невежеству простолюдина и привычке к брани»[220]. Часть дел заводилась по ложным или безосновательным доносам, связанным с личной враждой или неверным толкованием услышанного. «Посему возрастание числа дел этого рода не является каким-либо опасным признаком нравственной порчи народа, тем более что оно отчасти объясняется и большим развитием полицейского наблюдения»[221], – заключал шеф жандармов А. Л. Потапов, делая акцент на надежности полицейского надзора.
Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии специально вопросами городского благоустройства не занималось. Но среди архивных документов Третьего отделения, в сводках донесений о городских слухах и толках содержится немало сведений о проблемах городского хозяйства, о недовольстве жителей состоянием дел в городе, о неэффективности городских властей. В сферу интересов высшей полиции подобные сведения попадали, видимо, потому, что каждодневные проблемы городской среды беспокоили россиян не меньше, чем глобальные вопросы правительственной политики, тем более что общественное недовольство вполне могло вырастать из бытовой неустроенности жизни в городе. Следует отметить, что общий тон заметок о городских новостях и происшествиях в «Сводках о слухах и толках» в конце 1850-х – начале 1860-х гг. скептически-ироничный. Городские власти особым влиянием и уважением у сограждан не пользовались, а потому, сообщив 1 июня 1857 г. об избрании в Санкт-Петербурге нового градского головы, полицейский информатор прибавит, что прежний, говорят, купил себе виллу в Южной Италии и хочет туда перебраться: «Кажется, подобным людям хлеб-соль в России под конец делается уже не вкусна в самой нашей матушке России!»[222] Сильная гроза в один из летних дней 1858 г. дала повод для веселых комментариев относительно происшествия: в результате удара молнии по Думской башне оглох часовой. Шутники говорили: жаль, что гроза была не во время заседания, тогда «этот удар разбудил бы в некоторых тамошних членах секретарях заглохшую совесть и справедливость»[223].
Довольно часто агентами фиксировались суждения горожан о полицейских чинах. Летом 1857 г. безусловное одобрение общественного мнения получило назначение санкт-петербургским обер-полицеймейстером П. А. Шувалова[224]: «Шувалов в глазах Петербурга истинный gentelemen, доказывая, что не горлом надо брать, а кротостью и учтивостью, как за границею»[225]. Особенно выигрывал П. А. Шувалов в сравнении с одним из своих предшественников – А. П. Галаховым[226]: даже голос кучера полицеймейстера наводил тогда ужас на петербуржцев. А вот предстоящее назначение А. В. Паткуля[227] вызвало неодобрительные суждения (10 сентября 1860 г.): «Говорят, что он хотя и человек справедливый и решительный, но горячий, а иногда даже и грубый, об администрации же не имеет никакого понятия»[228].
Рядовые полицейские чины были постоянным объектом общественного порицания. Притчей во языцех были «будочники»[229], в обязанность которых входило обеспечение безопасности в городе. Горожане считали их «бесполезными […] и даже вредными». «Публика вообще, когда в разговорах касается до будочников, отзывается об них не иначе как о мошенниках и первейших грабителях, а не как о блюстителях порядка и безопасности жителей! […] Известно, что они [не] только неоднократно были запутаны в сообществе с ворами, но даже обличены в убийствах»[230], – указывалось в донесении.
Достаточно часто в сообщениях о тайных сборищах «игроков азартных игр» отмечалось, что «полиции все это хорошо известно»[231].
Случаи полицейских злоупотреблений были весьма разнообразны. В июле 1860 г. агенты Третьего отделения зафиксировали рассказ о том, что в Каретной части всеми делами ведал не квартальный надзиратель Гурский, а его жена, «которая вместо его разбирает разные жалобы, чинит по ним суд и расправу, берет взятки». Эту историю обыватели рассказывали «со смехом»[232]. 17 августа 1860 г. в одном трактире агент подслушал историю о том, что пристав 3-й части полковник Шен разыгрывал в лотерею по 50 коп. серебром за билет шелковую материю, «причем разговаривавшие смеялись над полициею и говорили, что хотя в прежние времена полиция и брала взятки, но никогда не прибегала к подобным средствам выманивания от обывателей денег»[233].
Иногда подобные сообщения сопровождались поручением шефа жандармов проинформировать петербургское полицейское начальство «частным образом»[234], то есть неофициально, без указания источника полученных сведений. Столичные обыватели не чувствовали себя защищенными под опекой городской полиции. Эту позицию достаточно четко выразил один петербуржец, сказав о городовых: «У этих людей только в голове как бы придраться к какому-нибудь простолюдину и стянуть с него гривенничек или два»[235].
Полицейские власти в сознании горожан были постоянными виновниками городских неудобств. Особенно «доставалось» полиции за ужасное состояние городских дорог. Даже начав их ремонт, полиция не избавила себя от упреков. 23 мая 1861 г. руководству Третьего отделения докладывались последние городские толки: «Публика хороших кругов, особливо дамы, сильно негодуют на нынешнее непростительное невнимание к ней полиции – допускающей ужаснейшую теперь здесь пыль, начавшуюся от построек и мощения улиц, от которой при ветре решительно ни одному порядочному человеку нельзя ни ходить, ни ездить без опасения глазной боли или потери вовсе зрения»[236]. Городская молва предлагала и способы борьбы с пылью в Петербурге, считая необходимым завести в каждом доме ручные лепки для полива («разумеется, не грязною зловонною водою, а колодезною или канавною»[237]).
Беспокоили обывателей и бездомные животные, которые доставляли им большие неудобства. Любопытная заметка находится в сводке о слухах и толках за 15 мая 1857 г: «Не постигают причин, почему с прошедшего лета отменена здесь благоразумная и столь необходимая для безопасности жителей мера, в летнюю пору убивать бездомных собак, в таком множестве скитающихся по улицам и площадям и устрашающих пешеходов не только ночью, но среди белого дня, – особенно детей порядочных родителей, во множестве гуляющих с их няньками по тротуарам и набережным? Неужели – говорят – мало было случаев от укушений бешеных собак и причиненных ими испуг, когда во время их скопищ оне целыми стаями бегают по улицам и без всяких причин бросаются на людей и лошадей? Настоящие причины такой непонятной и непростительной со стороны здешней полиции беспечности и отступления от прежнего порядка не только не известны обывателям Петербурга, но и к величайшему стыду, даже и самим полицейским офицерам!»[238]
Последующий материал показывает, как основательно чиновник Третьего отделения подошел к составлению этого сообщения: «На делаемые им [полицейским офицерам] обывателями вопросы об этом все их ответы совершенно различны между собою, что ясно доказывает, что никто об этом ныне здесь не заботится и со стороны городского начальства для безопасности людей в этом отношении не принимаются решительно никакие меры!»[239] Далее приводились ответы полицейских, полученные из частных бесед с ними. Объяснения предлагались самые разные, начиная с заботы о чести мундира: «Со времени Игнатьева[240], он отменил этот порядок, находя, что неприлично для солдат бить собак, ибо хотя этим занимаются фонарщики, но они все-таки считаются солдатами»[241]. Обнаруживались и социальные мотивы подобной бесхозности: «Это сделано по представлению брант-майора Эртеля[242], который просил Игнатьева дозволить ему вместо употребления фонарщиков бить собак, отпускать их во время трех летних месяцев, где они не бывают заняты фонарным по городу освещением, ходить на вольную казенную работу в пользу артельных их денег, для улучшения пищи сих бедных людей»[243]. Другая, «финансовая», версия заключалась в том, что «употребленные на этот предмет с незапамятных времен сети до такой степени изгнили, что совершенно сделались негодными к употреблению, а для изготовления новых совершенно нет сумм в полиции»[244].
Рациональный выход видели в предполагаемом намерении «сделать какие-то ручные сети, чтобы ловить живых собак, а потом уже бить их за городом, чтобы удалить это противное зрелище от жителей, и отделять собак с ошейниками от собак, скитающихся по воле, или давать им околевать с голоду в каком-нибудь отдаленном месте за городом»[245]. Этот вариант решения проблемы подтверждался рассуждениями: «Вместо фонарщиков Эртель предложил употреблять на это граждан – дворников, арестантов или разный другой сброд народа, но нет еще разрешения». Вполне вероятным было предположение: «Может, это сделано из экономии, ибо по давнишнему положению, полагается по 10 коп. с каждого собачьего хвоста в пользу фурманщиков»[246]. Опрошенные офицеры прибавляли, что это дело их начальства, а раз оно не делает никаких распоряжений, то и им незачем «соваться не в свое дело»[247].
Резюмируя результаты опроса и недовольства петербуржцев, чиновник убеждал свое начальство: «Но от этих пустых разговоров жителям Петербурга нисколько не легче, – следует действовать, а не рассуждать. Поэтому-то и совершенно справедливо их негодование против непростительного упущения, и желание, чтобы в скорейшем времени были приняты самые строгие меры для восстановления единожды и навсегда в Петербурге прежнего в этом отношении полицейский порядок, без которого в жаркое летнее время никто не может выходить со двора без опасения быть укушеным бешеною собакою»[248].
Результативность подобных донесений чаще всего не известна. Но в данном случае последствия тайной записки оказались заметны для горожан. 10 октября 1857 г. в сводке Третьего отделения появилась новая информация о том, что петербургская полиция наконец-то занялась уничтожением бродячих собак: «Это производится здесь совершенно на парижский манер, то есть двое везут телегу с ящиком, а несколько человек, каждый вооруженный железным обручем с сеткой, как бы мимоходом набрасывает ее на избранную жертву»[249].
Пожалуй, наиболее значимой для Санкт-Петербурга была проблема обеспечения города питьевой водой[250]. К этой теме наблюдатели из Третьего отделения обращались наиболее часто. Не претендуя на новизну в освещении вопроса о строительстве водопровода в городе, приведу лишь одно весьма колоритное свидетельство жандармской «борьбы» за чистую воду. 22 июля 1857 г. в сводку сведений для доклада шефу жандармов В. А. Долгорукову была включена весьма эмоциональная записка. Чиновник Третьего отделения обращал внимание руководства полиции на деятельное участие органов городского управления Москвы в обеспечении горожан питьевой водой. Подчеркивая существенные перемены в столице, он писал: «В Москве еще лет 10 тому назад весь простой народ должен был довольствоваться водой из колодцев, по большому недостатку в городе той воды, которая проведена в весьма малом количестве от Сухаревой башни и которую поэтому могли пить одни только достаточные люди. Теперь к чести попечительного городского управления, не щадящего ни издержек, ни трудов, проведена от Сухаревой башни по всему пространству Москвы, в фонтаны и другие водопроводы, по местам наиболее нуждающимся в чистой воде, и невзирая что число оных теперь уже довольно значительно в Москве и поныне еще продолжают устраиваться фонтаны»[251]. Главным результатом было то, что всякому «приятно видеть, как начиная от фонтана у нижнего кремлевского сада народ постоянно в продолжении целого дня толпится около всех водохранилищ, а еще приятнее думать, что эта хорошая чистая вода сохраняет здоровье жителей Москвы»[252].
Автор записки напоминает, что 9 лет тому назад император Николай I намеревался начать строительство в Санкт-Петербурге 8 фонтанов-резервуаров, но с тех пор дело не сдвинулось: «…это было в 1848 г., во время сильной холеры в Петербурге, когда каждого смерть висела на носу, но прошла опасность, прошел и страх, прошли и заботы. И Петербург на беду и ко вреду бедного класса людей остался по-прежнему со своею отвратительною, мутною, вонючею водой в Фонтанке, Екатерининском канале и Мойке, истинными résérvoires, как сказано медиками, зловредной для здоровья воды, по необходимости употребляемой двумя третями жителей Петербурга для пищи и питья! Не воздух, не пища суть зародыши холеры в Петербурге, а бесспорно тухлая, гнилая вода в канавах, или лучше сказать, этот настоящий настой дохлых крыс, собак, кошек и разных других нечистот, коими оне наполнены; в чем, к сожалению, всякий может ясно удостовериться»[253].
Локальные меры, связанные с надзором за недопустимостью сброса нечистот в городские каналы и чисткой водных бассейнов, должного эффекта не имели[254]. Практические попытки были неудачными. В документах сообщалось: «Чистка же этих каналов дело совершенно невозможное, как доказал сделанный однажды опыт на Фонтанке; изобретенная нарочно на сей предмет машина стоила огромной суммы, и потом оказалось, что она преграждала сообщение барок даже на самой Фонтанке, которая вдвое шире прочих каналов, и во время чистки вода делалась еще мутнее, совершенно негодная для всякого употребления, даже для полоскания белья! К тому же по медленности действия машины, которая могла быть употреблена только в летние месяцы, надлежало бы употребить на это несколько десятков лет, и по очистке каналов, опять снова начать эту операцию, а вода все-таки осталась грязною и вредною к употреблению, от постоянного истока в нее нечистот из домов и улиц»[255].
Обрисовав в красках проблему, чиновник осторожно подталкивал высшее руководство к ее разрешению. Его вывод можно разделить на несколько тезисов. В первую очередь отмечалось: «В Москве не щадят трудов проводить воду из такого дальнего места, как Сухарева башня, а в Петербурге, где Нева не единственная в отношении отличной воды река в мире, в таком близком расстоянии от всех мест, нуждающихся там в чистой воде, – и по сие время, решительно не предпринято ничего по этому предмету»[256]. То есть подчеркивалось, что финансовые затраты, объем работ будет не только сопоставим, но даже меньше московского строительства.
Затем в ход шел медико-санитарный аргумент: «Неудивительно после этого, что в Петербурге не прекращается и никогда не может в черном народе или в бедном классе жителей прекратиться холера, которая в настоящее время даже начала опять усиливаться – ибо по объявлениям в «Полицейской газете» в короткое время число холерных от 10 или 15 человек вдруг дошло уже до 200! Тогда как в Москве и других городах России народ уже забыл о холере»[257].
Для чиновника полиции значимость «водопроводного дела» была большей, чем уже реализовывавшаяся идея газового освещения города. Поэтому он сетовал: «Если весь Петербург изрыт трубами и каналами для газоосвещения, то не менее было бы полезнее провести таковые же и для провода невской воды в предположенные, но, к несчастью, давно забытые фонтаны! Впрочем, кажется, в этом отношении Петербург принял себе в девиз: L’agréable avant d’utile»[258].
Ну и, как водится, последний аргумент был наиболее ярким, значимым для власти и политизированным: «Кроме очевидной, неоспоримой пользы от фонтанов или водохранилищ в Петербурге, они составили бы величайшую красоту сего единственного, по великолепию своему городу в мире, и сравнили бы его в этом отношении с прочими первейшими столицами Просвещенных Европейских Держав, – и если начатие железных дорог в России, постоянный Николаевский мост и освещение Петербурга газом увековечили царствование Николая I, то конечно продолжение сих дорог по всей России и устройство водопроводов в Петербурге невской воды в числе прочих общеполезных учреждений не менее бы ознаменовало и настоящее царствование»[259]. Лакировка фасадного облика имперской столицы могла стать решающим аргументом. Во всяком случае, может быть, под влиянием приведенных донесений в 1859 г. в Петербурге начались работы по постройке водопровода[260].
В документах Третьего отделения вообще довольно часто можно обнаружить сопоставление двух столиц. В той же коллекции агентурных сведений найдено яркое, написанное в духе некогда популярных «физиологических» очерков донесение из Москвы. Привычное для литературной традиции противопоставление Москвы и Петербурга здесь основывается на аргументах полицейского благочиния.
Автора (им был старший чиновник Третьего отделения А. К. Гедерштерн) сразу поразил ритм городской жизни и внешний вид москвичей: «Для наблюдательного человека, не бывалого в Москве, с первого шагу бросается в глаза разительный контраст между бытом, движением и, так сказать, народным характером жителей той и другой столицы, особенно торгующего класса людей из черного народа. Петербург в этом отношении совершенный щеголь или нарядная кокетка против матушки-Москвы»[261].
Петербургу А. К. Гедерштерн отдавал явное предпочтение – чистота, опрятность, богатство, щегольство делают Петербург европейским городом, а это наиболее значимая оценка. Казалось, что все то неустройство, о котором «сигнализировали» служившие в Третьем отделении чиновники, куда-то исчезло: «В Петербурге все чисто опрятно, – на барскую ногу, исключая разносчиков, извозчиков и мастеровых, изредка только встречаешь простолюдина и то в отдаленных только улицах – вся остальная же масса жителей заключается в барах, щегольски одетых военных и гражданских чиновниках, пышных по последней парижской моде разряженных дамах и вообще людях хоть и различного звания и состояния, но весьма и весьма прилично одетых – словом, Петербург в этом отношении представляет общий вид не русского, а иностранного города, – Москва же напротив, царствует еще настоящий тип русского народа, начиная даже с самой физиономии черни»[262].