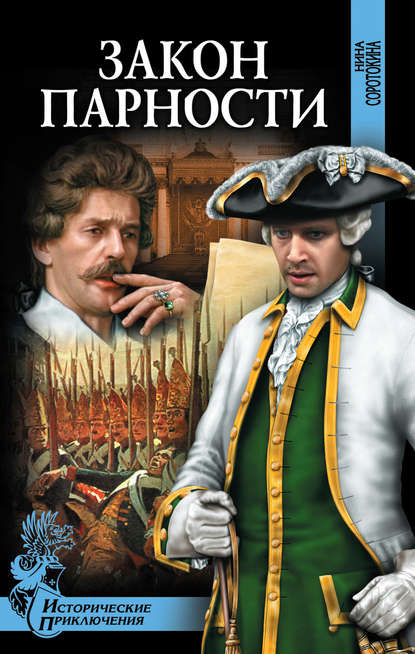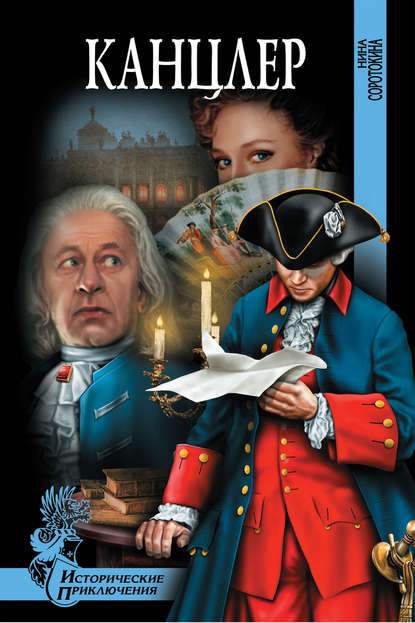
- Рейтинг Литрес:4.4
- Рейтинг Livelib:4.3
Полная версия:
Нина Матвеевна Соротокина Канцлер
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Нина Соротокина
Канцлер
© Соротокина Н. М., 2011
© ООО «Издательский дом «Вече», 2011
* * *Часть первая
влекомые фортуной
Анна Фросс
Среди пассажиров шхуны «Влекомая фортуной», идущей из Гамбурга в Санкт-Петербург, обращала на себя внимание очень молоденькая девица в скромном, отделанном стеклярусом сером платьице и большом плаще типа редингот, который в непогоду служил ей одеждой, а ночью – постелью. Весь багаж пассажирки умещался в простой шляпной коробке с нарисованной на крышке розой. Эту коробку она никогда не забывала в трюме, а носила с собой, прогуливаясь от кормы к носу. Девицу звали Анна Фросс, но на шхуне никто не знал ее имени. Пассажиры называли ее Леди, и она с удовольствием откликалась на этот титул, хотя и она сама и обращавшиеся к ней отлично понимали, что юная немецкая мещаночка уж никак не имеет на него прав. В этом обращении сквозили легкая, незлая насмешка, но более всего уважение к существу, которое природа одарила столь щедро: она была красива, добра, ласкова, услужлива. Личико ее было скорее хорошеньким, чем красивым, словно творец, пребывая в отличном настроении, создал кукольную, милейшую копию с истинной красавицы, но фигура, руки, походка!.. Леди, что и говорить. Да и кто знает, может, это скромное серое платье и грубый плащ всего лишь маскарад, а под ним скрывается представительница высокого рода, бежавшая от неправедного гнева родителей или несправедливых преследователей.
Пассажирам было приятно так думать. Глядя на девушку, они и сами поднимались в собственных глазах, обманывая себя, что их гонит в Россию некая тайна, а не только вера в удачу и собственная бесшабашность и глупость. Немецкий историк и филолог Шлесер, долгое время находившийся на русской службе, в минуту откровения и разочарования бросил фразу, которая мне кажется уместной: «Дураки полагают, что нигде нельзя легче составить себе карьеру, чем в России, многим из них мерещится тот выгнанный из Вены студент богословия[1], который впоследствии сделался русским государственным канцлером». Наверное, в наше время эта формула изменилась, сейчас для иностранцев Россия действительно непаханая, утыканная не стреляющими пушками земля – истинное золотое дно! Но кто считал трудности, которые ждут их на этом пути? Они придут – мирные завоеватели, и капитала не приобретут, и на родину вернуться забудут. Через поколение появятся русские Смитовы и Ватсоновы. Огромная страна переварит их и захлопнет в своем чреве. Да хоть Япония нас всех завоюй! Изменится только форма глаз, характер останется все тот же – загадочный…
Однако вернемся в XVIII век. Капитан «Влекомой» был хам. Шхуна была грязной, старой, тесной посудиной, заваленной подозрительным грузом, который очень боялись подмочить. Матросы целыми днями таскали по трюму тяжелые тюки и гоняли несчастных пассажиров, которые никак не могли обосноваться на одном месте. На пятый день плавания отношения, сложившиеся между командой и пассажирами, смело можно было обозначить таким словом, как ненависть. В самом деле, деньги за проезд взяли немалые, воду давали плохую, да и ту негде было вскипятить – никаких условий! Кроме того, с утра до вечера стращали мелями, противными ветрами, подводными камнями и пиратами: «Вот ужо погодите, господа сухопутные! Лихие военные люди[2] вас захватят, ограбят, а корабль сожгут. И всех в плен, в турецкое рабство!»
Но команду тоже можно понять – ведь кого везем-то? Добро бы пассажиры, а то так, шваль! Эти десять человек представляли собой как бы все сословия, но при этом казалось, что каждое сословие путем сложного отбора послало на «Влекомую» худших своих представителей. Кроме Леди, конечно.
Итальянская семья то ли торговцев, то ли циркачей везла с собой клетки с линялыми попугаями и необычайно злобными, голодными обезьянами, которые целыми днями орали и выли на все лады. Унылый, благообразный господин, чистюля и скупец ужасно чванился, какой он замечательный брадобрей, а потом так постриг штурмана, что последний, посмотрев на себя в зеркало, поклялся выбросить брадобрея за борт, и не спрячься тот в лабиринте тюков, непременно привел бы свою угрозу в исполнение. От страха брадобрей как-то странно посинел, а кожа его сделалась голубой. Но после очухался…
У двух всегда пьяных кларнетистов была одна жена на двоих, оба утверждали, что она законная и венчанная. Все их перебранки кончались дракой, в которых больше всего перепадало законной – большой, толстой бабе. Она вообще не закрывала рот, хвастаясь синяками так, словно они были орденами, полученными на поле битвы.
Еще был мелкий, пожилой человек, называющий себя бароном. Одет он был роскошно. Желтое, лилипутье лицо его выражало спесь, неимоверной длины шпага отчаянно бряцала, задевая за бочки, мачты и снасти. С самого первого дня он стал оказывать Леди знаки внимания, и спасла девицу только бортовая качка. Барон совершенно скис. Трудно помышлять о любви, когда ты висишь, перекинувшись через борт. Удивительно, сколько этот миниатюрный человек выблевал всякой дряни, во всяком случае, больше собственного веса – подсчитали пассажиры. Мнение о бароне особенно упало, когда наступил штиль. Хозяйка обезьян заявила со всей определенностью, что барон украл у нее яблочный пирог – подсохший, конечно, страшный, его уже и пирогом нельзя было назвать, но попроси… Теперь пассажиры в один голос заявили, что если «так называемый барон» еще раз попробует навязывать Леди свои дурацкие ухаживания и подмигивания, то его свяжут и отнесут в трюм, или посадят в клетку к обезьянам, или… за борт его, чего там церемониться!
– Я умоляю вас, зачем так строго? – краснея восклицала Анна. – Уверяю вас, господа, я сумею постоять за себя. А барон так несчастен! Он одинок. Он мне все рассказал…
Наконец пришли в Мемель[3], запаслись питьевой водой. Пассажирам запрещено было сходить на берег. Все стояли на палубе, глядя на скрытый туманом город. Здесь уже погуляла война. Разговоры на «Влекомой» велись о происшедшей здесь недавно морской баталии. Никто толком ничего не знал, но говорили очень авторитетно: город лежит в развалинах, пленных не брали, и вообще не понятно, зачем мы здесь торчим – может, русские взяли нас в плен? Собирались было послать на берег делегацию, дабы объяснить коменданту города, что они не могут быть пленными, потому что плывут в Россию добровольно. Но вдруг все разъяснилось. На шлюпке появился капитан, на веслах сидели матросы в незнакомой форме. Шлюпка пристала, и на борт подняли раненого морского офицера. Он лежал на носилках в бессознательном состоянии.
– Русские, – уверенно сказал цирюльник. – Я знаю этот язык.
Будущие жители России сразу притихли, стали очень внимательными. Старший из команды долго, приказным тоном говорил с капитаном. Тот молча кивал. Разговор кончился тем, что русскому офицеру отвели лучшее место на шхуне, если таковым можно было назвать узкое и полутемное помещение рядом с каютой капитана. Однако шустрый денщик с помощью десятка немецких слов сообщил капитану, что днем они с господином будут обитать на палубе, а на ночь он будет уносить раненого в указанное помещение.
Влекомая не столько фортуной, сколько человеческой настырностью, шхуна пустилась далее преодолевать морские мили. Любопытство к русскому офицеру не ослабевало, и скоро стали известны первые подробности. Офицера зовут Алексей Иванович, он богат, сам капитан корабля, а если еще нет, то вот-вот будет. Но, кажется, его собственный корабль по причине ремонта в осаде Мемеля не участвовал. Алексей Иванович воевал на чужом судне. Ядро, или осколок от него, угодило ему в ногу, чудо, что ее не оторвало, тем не менее рана была страшная. Вначале все шло к благополучному выздоровлению, но потом состояние его ухудшилось и начался антонов огонь. Прусские лекари твердо стояли на том, что ногу надо отнять, но русские настояли – оставить. Была сделана операция, но не ампутация, антонов огонь удалось остановить. Раненому стало лучше, однако сейчас главное для него покой, целебный морской воздух и возвращение домой.
Все эти сведения принесла юная Леди, которую пассажиры как бы откомандировали для налаживания связей с представителем России. Анна не сразу согласилась выполнять это поручение. Природная скромность заставляла ее просто стоять у борта и с отвлеченным видом рассматривать чаек. Только изредка она бросала взгляд на лежащего в шезлонге раненого, который при помощи денщика пил из чашки бульон. Но как только с бульоном было покончено, денщик, словоохотливый и быстрый, пришел на помощь.
– Их сиятельство спрашивают, – сказал он, приблизившись к девушке и нагловато заглядывая ей в глаза, – сколько на сим замечательном судне, проще говоря корыте, обретается пассажиров?
Красноречие денщика пропало зря, Анна не знала ни слова по-русски.
– Брось, Адриан, какое я сиятельство? Что ты голову людям морочишь? – проворчал раненый.
Но денщик не успокоился, только хмыкнул и с трудом начал переводить свой вопрос на немецкий.
Девушка робко приблизилась.
– Десять, – она улыбнулась и, решив, что офицер ее не понял, подняла вверх очень красивой формы руки и чуть растопырила пальцы. На указательном вдруг блеснул крупный, хорошей огранки алмаз, повернутый камнем внутрь. Девушка смутилась и спрятала руку в карман.
– Ах, десять? – раненый улыбнулся и откинулся на подушки.
На вид ему было около тридцати, но, присмотревшись, можно было сказать, что он значительно моложе. Он был без парика. В челке надо лбом, в манере слегка морщить нос, загораживаясь рукой от солнца, в беспомощной улыбке было что-то мальчишеское. На его коленях лежала набитая табаком трубка, которую он не курил, а только ощупывал тонкими, очень чистыми, как бывает у больных, пальцами. На щеке его была родинка, которая очень ему шла. Непомерно большая, туго забинтованная нога его покоилась на черной подушке, но казалось, болезнь сосредоточилась в глазах, мутноватых и грустных. Веки его слегка подрагивали, готовые в любой момент закрыться от усталости. Однако было видно, что раненому осточертело болеть и он радуется любой возможности хотя бы в разговоре вернуться к нормальной жизни. Он неплохо изъяснялся по-немецки, и разговор завязался.
Она плывет в Россию в поисках счастья. Ее добрая мать должна была плыть с ней, но в последний момент болезнь (о! нет! не смертельная, подагра, сударь!) приковала ее к постели, и дочь (меня зовут Анна, сэр) была вынуждена путешествовать в одиночестве. Так уж случилось… Она едет к дяде. О! Дядя уже пять лет служит в России. Он чиновник, весьма уважаемый человек. Она надеется, что дядя ее встретит. О приезде Анны матушка еще загодя известила брата письмом.
Анна говорила с явным удовольствием – вы задаете вопросы, так отчего же не ответить. Видно, такая у вас, русских, манера. Но в каждом ее ответе звучала недоговоренность. Она легко начинала фразу, а потом замирала на полуслове, словно раздумывала, называть фамилию дяди или не называть, вспомнить его петербургский адрес или забыть навсегда. Весь ее вид говорил: если вы мне до конца не верите – и не надо, потому что жизнь сложна, в ней много подводных камней и неожиданных поворотов. Но вы же умный, господин офицер, вы должны понять, что если девица бросилась одна пересекать Балтийское море, то ее вынудили к этому особые обстоятельства, и она, эта девица, достойна уважения и сочувствия. Впрочем, разговор по большей части шел не об Анне, не о Германии и не о Петербурге, а о великой битве при Мемеле.
Это была первая серьезная победа русских. Алексей Иванович говорил вдохновенно, а Адриан пересказывал бытовые подробности, без которых не обходится ни одно, даже самое великое событие. Ему не хватало немецких слов, Алексей Иванович с удовольствием переводил, а потом все вместе весело хохотали. Прочие пассажиры с завистью поглядывали на эту троицу.
Тем временем Санкт-Петербург приближался, и заботы пассажиров склонялись к делам сухопутным. Все обсуждали друг с другом порядки русской таможни, об этом они были наслышаны еще дома, читали вслух рекомендательные письма, уточняли месторасположение улиц, кирхи и католического собора – места встреч всех иностранцев в северной столице.
Как назло зарядили дожди. Адриан перенес своего хозяина в помещение, гордо называемое каютой. Вид у денщика был озабоченный – барину стало хуже. Как-то вдруг, ни с того ни с сего, дня три назад Алексей Иванович вдруг резко похудел, нос заострился, темная родинка на щеке словно припухла, и кожа на лице покраснела – у него поднималась температура.
Острова Гогланда в Финском заливе проходили в полном тумане при неверном ветре. О, кто из плавающих в этих водах не знает подлые подводные камни у Гогланда и Фридрихсгамна?! Гудящие, тугие, полные ветра паруса, резкие отрывистые команды, капитан сам встал к штурвалу. В душе у каждого была одна молитва – только бы не сесть на мель! В этот-то момент и появился на палубе Адриан с истошным криком:
– Лекаря, лекаря, черт подери! Неужели на шхуне нет лекаря?! – он метался по палубе, но все отмахивались от него, воспринимая денщика как досадную помеху.
Наконец скучный цирюльник, который, как и свойственно людям его профессии, считал себя хирургом, переступил порог каюты, где находился раненый. Визит его кончился неудачно. Он вдруг выпрыгнул на палубу, похоже, от пинка в зад. Цирюльник не обиделся, а рассказал шепотом пассажирам, что русский очень плох. «Испарина, судари мои, пульса никакого. Я предложил ампутацию, но денщик меня просто не понял».
– Отлично он тебя понял, кретина! – подал голос маленький барон. – Зачем лез? Для неприятностей в таможне? Или для знакомства с русской полицией?
Ночью, когда страшный остров Фридрихсгамн остался далеко позади, а до Кронштадта осталось не более пятидесяти миль, Анна решилась подойти к заветной двери и осторожно, пальчиком постучала. Адриан не удивился ее приходу.
– Плохо… – сказал он негромко. – Очень плохо. – И Анна его поняла.
– Но он жив? Дышит? – видя, что Адриан не улавливает смысла ее слов, она сама тяжело задышала, положив руку на грудь.
Адриан покосился на высокий девичий бюст и сказал, словно себе самому:
– Все равно не пущу…
В глазах девушки неожиданно заблестели слезы. Она поставила на палубу шляпную коробку, молитвенно сложила руки. Если бы Адриан понимал не только десять немецких слов, но и ее страстную, потоком льющуюся речь, он узнал бы тайну прекрасной Анны. Она сказала неправду. Она совсем одна. В Гамбурге у нее никого нет. Мать не благословляла ее в дальнюю дорогу… Дядя в Петербурге – чистый вымысел… Она так рассчитывала на господина Алексея Ивановича! По сути дела, он ей обещал. Он так добр…
– Ну, будет, золотко. Смотришь, и поможет Господь, – проворчал Адриан и захлопнул дверь.
Призывая Господа, он, конечно, думал о своем хозяине, а не о немецкой фрейлен. Адриан сейчас вообще не мог думать ни о чем, кроме как о болезни Алексея Ивановича. А что немка плачет так, как ей не плакать над таким красавцем? Приглянулся он ей, видно, вот и жалеет. На Алексея Ивановича многие дамы глаз косили, но посторонитесь, милые, увольте, нас в Петербурге Софья Георгиевна ждет – супруга капитана Корсака.
В порт Кронштадт, что расположен на острове Котлин, прибыли под вечер, но было совсем светло. Таможня была придирчива. Багажи обыскивали тщательно, лазили даже в клетку к обезьянам, заглянули в шляпную коробку Анны, где лежало белье. Придрались, как ни странно, к маленькому барону. В его бауле обнаружили пару французских пистолетов. Кто ж знал, что в Россию надо ехать безоружным? Таможенник не понял тонкой насмешки, он начал кричать и все повторял: «По законам военного времени!..» Барон тоже повысил голос. В общем, его неожиданно сняли на берег. Никто ему не посочувствовал, кроме Анны. Видно, отчаявшись получить помощь от Алексея Ивановича, она рассчитывала на поддержку барона.
– Не волнуйтесь! Обойдется! Россия – страна непредсказуемая! – выкрикнул он пылко, похлопал по плечу брадобрея и сошел по сходням на берег.
К общему удивлению, таинственный груз шхуны не вызвал задержки. Свою положительную роль сыграл также раненый офицер. К нему вызвали лекаря. После беглого осмотра тот стал настаивать на скорейшем отплытии шхуны.
Бледные белые ночи северной столицы, все улицы, площади, церкви, конюшни и лачуги бедняков залиты словно разбавленным молоком. Тихие, помятые пассажиры сошли на берег, даже попугаи с обезьянами молчали. Супруга кларнетистов в шелковом платье со старательно запудренными синяками испуганно озиралась, открыв рот. Итальянская семья таскала багаж. Цирюльник надел на плечо какой-то мешок и, засунув руки в карманы, словно они у него мерзли, засеменил прочь. На Анну никто не обращал ни малейшего внимания. Все понимали, теперь каждый за себя, а отношения, которые сложились на корабле, не более чем миф, прошлое, небылица.
Неслышно подошел вельбот. Туман гасил лязганье уключин, вода совершенно беззвучно стекала с лопастей весел и так же беззвучно падала вниз. Молчаливые моряки быстро взбежали на шхуну и через минуту осторожно снесли по сходням бесчувственного Алексея Ивановича. Лекарь шел впереди, Адриан замыкал шествие. Раненого перенесли на вельбот, который беззвучно удалился от пристани. Моряки гребли как один – в лад, лица их были сосредоточены, вот уже не видно лиц, а только контур их угадывается в тумане. А вот и контур пропал.
Бог мой, как тихо! Когда Анна оглянулась и осмотрелась, недавних попутчиков уже не было. В бревна причала била волна. Колонны белели вдалеке, как кости великанов. Загадочная столица втянула в себя и попугаев, и циркачей, и флейтистов. Она осталась одна.
Великое мужское содружество
Александр Белов получил назначение в кирасирский полк еще в апреле и сразу направился в армию. Направление свое он рассматривал как избавление от службы в казарме, которая не давала ему ни удовлетворения, ни повышения в чине. Все вакантные чины в Измайловском полку были заняты. Как известно, гвардия противу армейской кавалерии и пехоты имеет преимущество в два чина. Поэтому, оставшись капитан-поручиком гвардии, он сразу стал ротмистром, что приравнивалось к армейскому полковнику. Но главной причиной, заставившей его бежать из дома, были крайне сложные отношения с женой Анастасией Павловной, когда-то гордой красавицей, а теперь больной, измученной жизнью женщиной. Александр не мог понять, что это за болезнь, медики тоже разводили руками. Сама Анастасия считала, что это чахотка.
Главной бедой своей жизни считала она не казнь и ссылку матери, не потерю богатства, не трудности и лишения, выпавшие на ее долю во время бегства с Брильи, а то, что отвратила от нее свой лик государыня Елизавета, запретив появляться при дворе. Девять лет прошло с той поры. Болезнь мучила Анастасию бессилием физическим, худобой, синяками под глазами, полыхающим румянцем, однако дух ее не только не был сломлен, но и еще более окреп в борьбе с житейской несправедливостью. Только другую песню пела душа ее. Анастасия стала праведной христианкой, самой праведной – до фанатизма. Заметим вскользь, что если в молитве к Господу ты мыслишь себя самым лучшим, самым чистым и искренним, то лучше не молиться вовсе, потому что сие есть гордыня, чувство, особенно порицаемое православной церковью. Об этом и говорила не раз игуменья, мать Леонидия, племяннице, и Анастасия соглашалась, что ангельская кротость ей более пристала. Однако болезнь или жар душевный сжигали ее, как вулкан. Проведя месяц в кротости, она опять начинала сотрясать устои человеческие, порицать всех, учить, наконец, требовать. Только тот достоин имени человека, кто бросил сей мир греховный и ушел в монастырь.
Сама она тоже мечтала совершить сей подвиг, но не сейчас. Вначале надо было доказать императрице, что та была жестока и несправедлива к ней и маменьке Анне Гавриловне. Мало того, доказать, нужно было увидеть раскаяние Елизаветы. В мечтах Анастасия видела государыню с потупленным взором, со скорбно опущенной головой.
– Вы были правы, я – не права, – вот что должна была сказать Елизавета, а просветить ее должны были не люди (что возьмешь с глупых и слабых), а сам Господь Бог.
Но видно, не пришло еще время для прозрения.
Когда по Петербургу поползли слухи о болезни государыни, то Анастасия связала эту хворь со своим порушенным семейством – значит, такова воля неба, значит, такой способ наказанья выбрал Господь. Однако недолго ей пришлось наслаждаться торжеством справедливости. В этот же месяц Анастасия сама заболела, сильно прозябнув на ветру. Вылечилась с трудом, и теперь малейшая простуда вела к непроходящему кашлю.
– Мы должны ехать в Италию. У меня порча в легких, – говорила Анастасия мужу.
– Душа моя, лекарь утверждает, что это болезнь бронхов. Тебе не надо стоять так долго на коленях в храме. Там такой холодный пол. И сквозняки… А в Италию я сейчас поехать не могу. Война в Европе, а я человек военный, пойми…
Анастасия была глубоко равнодушна к войне в Европе, к чести русской армии и коварству Фридриха. Нельзя так нельзя, но зачем все эти патриотические заклинания?
Второй причиной, удерживающей ее от монастыря, была любовь к мужу, но и она видоизменилась вместе с характером. Александр стал не нежен, равнодушен к ее беде (читай – отношения с Елизаветой, вернее – отсутствие этих отношений), не тонок и эгоистичен. Упрекнув Александра в безразличии к чести Головкиных-Ягужинских-Бестужевых, она тут же могла бросить, как бы между прочим, что, мол, это безразличие вполне естественно: она, Анастасия, подняла мужа до своего уровня, а он как был мелкопоместным дворянчиком, так им и остался. Что он понимает о чести? Понятие об этом у него такое, как у всей этой дворянской мелюзги, а Головкины с царями были в родне…
Александр сатанел.
– Но я ведь не могу вызвать Елизавету на дуэль! Ты это понимаешь?
Нет, Анастасия этого не понимала. Оскорбив мужа, она смотрела на него с таким презрением, что у Александра сами собой сжимались кулаки. Его папенька никогда не бил маменьки, но дядя по отцовской линии… словом, у тетки всегда были малинового цвета щеки, говорили, муж раскрашивал от строптивости. Но нет, никогда он и пальцем не тронет Анастасию. Во-первых, любил, во-вторых, тоже любил, а в-третьих, жалел. Надо еще сказать, что с годами Анастасия стала до неправдоподобия ревнива. Она ревновала мужа не только к хорошеньким женщинам где-нибудь в театре, на балу или на улице, но и к служанкам, к прачкам, к его службе (там могут быть женщины!), к фонарным столбам и кораблям на рейде, которые, дай срок, увезут обожаемого супруга к дальним берегам, где полно грудастых, веселых, наглых, в браслетах и бусах. Ночь остужала страсти, но утром начиналось все сначала.
Его отъезду в Ригу предшествовал очень трудный разговор.
– Как ты можешь ехать, бросив меня здесь одну, больную?
И он отвечал все то же:
– Идет война, я солдат…
В последнем Александр, конечно, слегка фасонил. Он никогда не ощущал себя солдатом. Гвардейцем – да, там, где казарма, хорошие мужские отношения, дежурства, карты, выпивка, интрига, бал, он был в первых рядах, но пороховая пыль вперемешку с дорожной… ее он еще не нюхал, не приходилось. Да и не любил. И Анастасия отлично знала это.
– Ты – солдат? Ты фат! Ха-ха! Можно подумать, что русская армия без тебя не обойдется. И потом, я знаю: эта война неугодна Богу… все войны неугодны Богу!
– В его власти их прекратить, – резонно отвечал Александр, но, зная, что этот бессмысленный разговор может завести в дебри, из которых не выберешься, тут же шел на попятный: – Война скоро кончится, уверяю тебя.
– Я уеду к матери Леонидии, так и знай! И мы больше никогда не увидимся!
– Зачем так грубо намекать, что меня убьют?
– Это меня убьют! Меня убьют болезнь, горе, слезы… Я умру в дороге.
– Не надо, душа моя, – как всегда, Саша мирился первым. – Я сам отвезу тебя в Вознесенский монастырь. Там тебе будет хорошо. Покой, красота… Козье молоко тебя поставит на ноги.
На том и порешили. Прямо из монастыря Александр поехал в армию и прибыл в Ригу в последнее число апреля[4]. Это был как раз день праздника, как окрестили смотр русских войск жители Риги.
Смотр был приурочен к переходу армии через реку Двину по только что наведенному понтонному мосту. Прежде чем вступить на мост, армия должна была промаршировать по всему городу. Скопление народа было необычайное. Забиты людьми были все улицы, городские валы, а также окна, балконы и крыши. Некоторые смельчаки забрались на кровли соборов и оттуда, с птичьего полета, наблюдали парад. Сам фельдмаршал Апраксин со свитой, штабом, генералами Лопухиным и Фермором разместились почти у входа на мост в роскошном шатре. Второй, не менее роскошный, шатер был предоставлен знатным горожанкам города Риги. Здесь присутствовали дамы всех возрастов и сословий, праздничная музыка оживляла лица, все они были прехорошенькие.