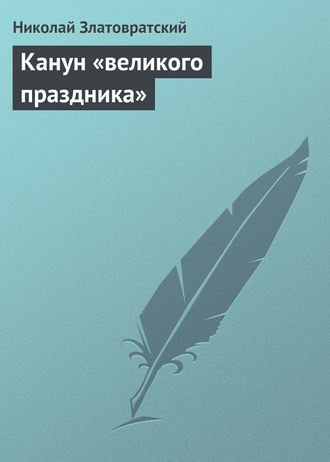
Николай Златовратский
Канун «великого праздника»
Гости, по-провинциальному, стали собираться рано, «к закуске». Всех раньше приехал ополченец. Он был теперь такой же сияющий и веселый, как и батюшка; вспомнил наконец и о нас, забрался к нам на матушкину половину, поздравил матушку и стал шутить с нами и даже с дедушкой. Он был так беззаветно весел, что даже дедушкины озабоченность и подозрительность пропали было. Гости собрались уже почти все, как вдруг приехал «самый важный гость»: такой чести для отца никто не мог ожидать. Наш праздник принимал характер важного события. Батюшка, взволнованный, прибежал на нашу половину и приказал нам надеть самое лучшее платье. Затем нас с сестрой (матушка считалась по-прежнему больной и выходить отказывалась) повели в зальце и представили «самому важному гостю», который подставил нам для поцелуя тщательно выбритую и обсыпанную душистою пудрой щеку. Был представлен, почти насильно, батюшкой и дедушка, который совсем смутился от этой чести и не знал, куда девать себя. А между тем я заметил, что дедушку охватило такое же волнение, как это было в день нашего отъезда из деревни. Он стоял в самом углу, у порога, как будто ничего не видя, смотрел на гостей, вздрагивал и то и дело искал карман с табакеркой и никак не мог найти. Среди гостей уже шли шумные разговоры. Но вот принесли вина и закуски. Стали выпивать, и начались поздравления. Дедушка весь так и впился глазами, полными страха, в толстого важного гостя, с крестом на груди, и высокого рыжего попова сына, когда они подошли к отцу с поздравлениями. Я стоял рядом с дедушкой, и он ловил все мою руку, как будто хотел опереться. Я взглядывал на него и не понимал, что с ним делается, только чувствовал, как рука его дрожала, как будто его била лихорадка.
Между тем беседа среди гостей стала оживленнее, веселее. Сам важный гость стал шутить и предметом шутки выбрал разряженную нашу Акулину.
– Ну, кривая, – говорил он, – хочешь быть вольной? А?.. Чай, спишь и видишь, поди? А?.. Хе-хе-хе!.. Только бы, мол, дождаться, а там бы я показала хвост-то, даром что кривая! А?.. Так, что ли?
– Ась? Чего-то я в толк не возьму, вашескородие, – говорила, кланяясь в пояс, Акулина. – Совсем с пахлей сбилась с хлопотами-то, да вот поваренок меня с ума-понятия совсем сбил…
– А ты зубы-то, кривая, не заговаривай… Говори прямо: как только объявят волю, так сейчас и в бега от хозяев, в деревню? А?..
– Да с чего ж мне такды бежать-то, сударь, коли вольная буду? – выпалила Акулина и даже осмелилась улыбнуться всем гостям.
– Ишь хитрая!.. Крива, крива, а в оба глаза видит! – смеялся важный гость.
А дедушку все трясла лихорадка. Вот он зачем-то вышел. Потом опять появился в дверях в то время, как подали «донскую шипучку» и все снова стали поздравлять батюшку, жали ему руки, обнимались друг с другом и с чем-то тоже поздравлялись. Вдруг важный гость расчувствовался до того, что обнял батюшку и троекратно облобызал его. Увидев это, рыжий попов сын тоже обнял батюшку и потом бросился обнимать и целовать дедушку. Дедушка затрепетал весь, как осиновый лист, и его хватил невыразимый страх. Но через минуту он вдруг выпрямился, его влажные глазки засверкали, он сделал два шага к батюшке и громким, слегка дрожащим голосом, каким он читал в церкви ектений[1], подняв правую руку, вдруг сказал:
– Александр!.. бога помни… Помни… бо-ога-а!
Все сразу смолкли и стали смотреть в изумлении на дедушку. Батюшка был смущен и не знал, что сказать. Дедушка смотрел все на него, дрожал и силился что-то сказать, но его губы только беззвучно шевелились. И вдруг он заплакал, опустив голову.
– Саша, – заговорил он, – мы бедные… простые… У нас в роду этого… не было… сребреников… али мздоимства… Помни Иуду… Вспомни, Саша, в избе родился… Ах, долго ли до греха! Соблазн-то какой, соблазн-то!.. Почести барские, яства, приношения… Закупят, закупят!
– Да что вы, тятенька, что с вами?.. Какой вы чудак, – заговорил батюшка. – Вот как вы засиделись в деревне-то, вам все в страх да в новинку… Неужели, думаете вы, мы не знаем себя?
Батюшка весело засмеялся, засмеялись за ним и гости, как вдруг из-за двери показалась Фимушка и, помахивая вперед себя подожком, заговорила:
– Дьякон, ты где?.. Слышно, говоришь?.. Учи сына-то, учи… Ты – отец; на тебе спросится там… А ты, Лександра, молись… чтобы духом укрепиться!.. Молись, голубь!.. Ну, прощайте, добрые мои!.. Пора нам… ждут нас.
И Фимушка с дедушкой вышли.
Потрясенный всею этою странною сценой, я чуть не разрыдался и бросился за дедушкой: мне казалось, что его кто-то больно и горько чем-то обидел. Увидав его в комнате матушки утирающим слезы, я бросился к нему на грудь и разразился рыданиями, совершенно непонятными и неожиданными.
Гости скоро разъехались. Батюшка ничего не упоминал об этой сцене, но был сдержан и молчалив с дедушкой. Дедушка тоже был серьезен и молчал. А к вечеру он с Фимушкой уехал.
Все это долго и глубоко волновало мою ребячью душу; я часто видел во сне своего «маленького дедушку», грозно возглашающего что-то, с поднятою кверху, дрожащею рукой, и мне становилось и страшно чего-то и больно за что-то. Но я совсем не понимал значения всего этого, и только уже после, из рассказов отца и матушки, я узнал, что дедушка в этот раз приезжал к нам неспроста: его послала с Фимушкой, в сопровождении шестипалого мужичка, наша родная деревня, так как до нее дошли слухи, что «Лександра запродался господам»… А еще после я узнал о своем «маленьком дедушке» нечто более поразительное.
Спустя месяц он вдруг приехал к нам опять совсем неожиданно, ранним утром. Когда я к обеду вернулся из училища, я заметил какое-то особенно напряженное настроение у нас. Отец и матушка вместе с дедушкой сидели, запершись в кабинете, и о чем-то шептались. Я долго, волнуясь любопытством и предчувствием чего-то необычайного, ходил около двери, надеясь услыхать что-нибудь хотя через щель. Наконец вышла матушка, вся в слезах, притворив за собою тихо дверь. Я сейчас же пристал к ней с вопросами, еще более встревоженный ее видом.







