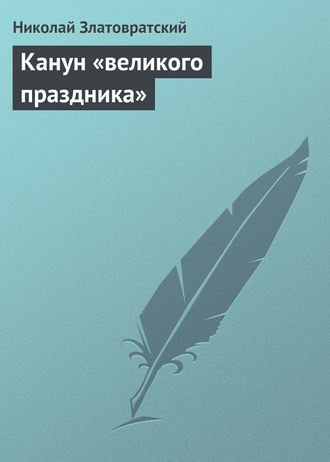
Николай Златовратский
Канун «великого праздника»
Но так было только вначале; скоро стали являться к Акулине гости другого разбора, уже не такие смиренные и робкие: то были большею частью высокие бородатые мужики в толстых нагольных шубах, в больших валенках, в огромных меховых шапках и кожаных голицах. Приезжали они всегда поздно к вечеру, никогда ничего с нами не говорили и в нашей кухне ночевать не оставались; поговорив о чем-то короткими фразами с Акулиной, они сейчас же уходили опять, но за ними тотчас же скрывалась и Акулина. Иногда при этом она нам говорила:
– Неравно, спаси бог, хватится мамынька, скажите: к землякам, мол, побежала, одною минутой обернется…
Вообще значение Акулины в наших глазах вырастало с каждым часом и мы теперь уже не только не смеялись ей в глаза, когда она читала нам нравоучение, а начинали на нее смотреть с таким же почти страхом и почтением, как и на «важных гостей», сидевших в нашем зальце. А Акулина забирала все выше и выше: она уже секретно шепталась о каких-то важных делах не только с своими деревенскими гостями, но и с самим батюшкой. Мы стали замечать, что она часто вызывала батюшку в прихожую (говорить о своих «важных делах» в «чистых» комнатах она не решалась), передавала ему завернутые в платок какие-то бумаги и долго о чем-то ему внушительно сообщала. Батюшка, обыкновенно, над нею подсмеивался, но тем не менее бумаги брал и прочитывал их вместе с ополченцем. А Акулина, покончив с батюшкой, тоже украдкой, где-нибудь в углу за печкой, передавала матушке какие-то сверточки, мешочки то с маслом, то с поросенком или курицей.
– Бери, бери! – уговаривала она матушку. – Это тебе деревенский гостинец.
– Да откуда у тебя, Акулина, нынче столько гостинцев этих появилось? – спрашивала матушка.
– А ты бери – не брезгуй… Дают, так и бери… Другие-то еще то ли берут… силком дерут!
Вот какое было это «доброе старое время», когда даже Акулина брала безгрешные приношения!
Но когда матушка спрашивала ее, о чем это она с батюшкой шепчется и какие у нее с ним дела повелись, Акулина, обыкновенно, отвечала:
– А вы, барыня, молитесь знай укромно… Не нашей сестры это дело… Большие это дела!.. Куда нам их знать!
А в действительности Акулина знала, как нам казалось, очень многое и куда больше, чем знала матушка. Однажды вечером вошла Акулина к матушке в спальню и, по обыкновению, стала ей что-то шептать.
– Да откуда ты все это знаешь, Акулина? – спрашивала матушка.
– Э, сударыня, как свои дела не знать!.. Кровные свои ведь эти дела-то. Уж вы меня, Настасья Ивановна, пустите завтречка… Я и печку чем свет вам истоплю… Мне ведь только за заставу проводить и х, сердечных, да попечаловаться… Хошь и далекие они нам, а все как будто свои, близкие… Жалко… – И Акулина кончиком головного платка чуть приметно утирала слезы.
– Что ж, ступай.
– В кандалах, слышно, гонят, в железных цепях.
– Спаси их господи! – перекрестилась матушка.
Мы с сестренкой давно уже насторожили все свое внимание, но плохо понимали, в чем дело, и между тем у нас отчего-то уже щемило сердце.
Странное впечатление вообще производило то время на нашу детскую душу: совершавшиеся большие события стояли, конечно, выше нашего понимания, а между тем какая-то жуткая напряженность и таинственность, сказывавшиеся в самых даже простых явлениях, нас окружавших, мучительно трогали наше сердце и заставляли его постоянно быть настороже, чутко ловить каждый неясный звук и жизненный отклик.
– Да не напечь ли бы нам, сударыня, – продолжала опять шепотом Акулина, – пирожков, так, сочешков бы с кашей?.. Как бы хорошо-то было!.. Что говорить, дорога дальняя… Погонят их, слышно, до самой китайской земли… А у нас и мука-то есть залишняя, что даве из деревни-то в гостинец прислали…
– Ну что ж, это хорошо будет, Акулина, – вздохнув, сказала матушка. – Господи, сколько греха, сколько греха в жизни! – мечтательно воскликнула она и, по обыкновению, долго-долго задумчиво смотрела на образ.
Все это еще больше затрагивало наше детское воображение, но ни от Акулины, ни от матушки мы не получили никаких разъяснений. Поэтому все следующее утро мы с сестрой тщательно следили за каждым шагом Акулины и почти не выходили из кухни, смотря, как она делала загадочные пироги и сочни. А потом, когда она, собрав их в мешок, пошла куда-то, мы незаметно скользнули за нею. Она подошла к большой улице, к той общеизвестной в то время «Владимирке», которая проходила через наш город. Она долго, стоя посередине улицы и держа под рукой мешок, всматривалась в даль и ждала чего-то. И вот скоро мы увидали большую толпу, послышался лязг цепей, чьи-то завывания и плач… Мы не могли осилить долго назревавших уже раньше и теперь сразу нахлынувших впечатлений, нам стало так чего-то, страшно, что, схватившись за руки, мы, дрожа, бросились бежать, как когда-то бежали от «темницы» Фимушки, услыхав ее полубезумные выкрики. А это был этап переселяемых по власти рабовладельца в Сибирь взбунтовавшихся крестьян, но уже последний этап, последний акт великой несправедливости того времени…
Но это мы уже узнали после, а пока… пока наше детское сердце жило тоскливыми впечатлениями какой-то неотвратимой двойственности, в которой мы вместе с матушкой бились, как птицы в клетке. Там, у батюшки, – «важные гости», возбуждавшие и в матушке, и в нас, да, пожалуй, и в самом батюшке какие-то неясные страхи, неопределенную боязнь за что-то и неуверенность; здесь, в кухне Акулины, – другие «неважные гости», приносившие с собой к нам что-то дорогое, заветное, которым они хотели бы искренно и сердечно поделиться с нами, излить все это, накопившееся в их душе, и в то же время все они говорили только намеками, шепотом, по углам и боязливо, дрожа за каждое слово, за каждый лишний вздох… Ощущение этой двойственности в моем детстве было так велико, что оно наложило на мою душу неизгладимую печать на всю жизнь, и продолжала биться эта душа долгие годы все тою же птицей в клетке, ища у жизни выхода из жестоких тисков этой двойственности, которая терзает нашу бедную русскую жизнь… Когда же наконец заря истинной свободы снимет с нас ее позорные путы?..







