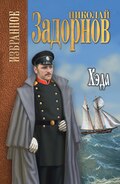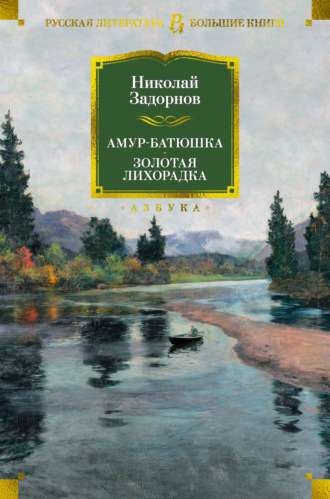
Николай Задорнов
Амур-батюшка. Золотая лихорадка

© Н. П. Задорнов (наследники), 2022
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство АЗБУКА®
Амур-батюшка
От автора
Осенью 1937 года мы с женой приехали в Комсомольск-на-Амуре в конце навигации, с последним пароходом. В 37-м году обоим нам было по 27 лет. Ночь была морозная, нас привезли с пристани на грузовике и поместили в неоштукатуренной, но прекрасной по тем временам комнате, в только что построенном двухэтажном доме из бревен. Утром оказалось, что вся улица из таких новых домов, а за ними начиналась тайга. Наша улица была лучшая в городе, и при высоком синем небе и осенней желтизне ее дома из красной лиственницы были хороши. По улице не было проезда, она вся была загромождена корневищами больших деревьев. Ходить можно было только по узкоколейке. Ночами приходили эшелоны груженых платформ и солдаты строительной части с грохотом сваливали бревна для построек. На других улицах стояли прозаические бараки, типа удлиненных мазанок с деревянными тротуарами среди растоптанной грязи. Дальше, на фоне дальних гор, но довольно близко от нас, на нашем же берегу Амура, высились доки кораблестроительного завода. Два раза в день я проходил по этим тротуарам в молодежный клуб, где, открывая свой первый сезон, начинал работать первый профессиональный театр Комсомольска-на-Амуре. Я заведовал в театре литературной частью и был режиссером-лаборантом. Мы ставили пьесы о Дальнем Востоке не потому, что наш театр был дальневосточным. Тогда Дальний Восток и Комсомольск-на-Амуре занимали умы всей страны. В те годы во всех театрах столицы и других городов шли пьесы о Дальнем Востоке и о границе. О Комсомольске писали книги. На Дальний Восток приезжали лучшие журналисты и писатели. Время было тревожное, войны ждали с востока более, чем с запада. Все это придавало воодушевление всем работавшим в том краю.
На необжитой территории, среди необозримых лесов строился новый промышленный центр. Пришли строить большим коллективом, который непрерывно пополнялся. За подвигами комсомольцев следила вся страна. Со временем в распоряжение строителей были даны современные суда, машины. К новому городу уже прокладывалась из Хабаровска железная дорога. Тайга еще жила своей жизнью, она еще не ушла, хотя, конечно, и доживала свой век. Но мы, до поры, этого не чувствовали.
Сам я не был охотником. Уже потом, однажды ночуя в колхозе у нанайцев, я слышал разговор про себя в конторе за перегородкой: «А Задорнов охотник?» – спрашивал русский. «Конечно охотник!» – отвечал нанаец. «Почему же он на охоту без ружья ходит?» – «А он, понимаешь, карандашом стреляет!» Все это было верно, я обычно ходил только с карандашом.
Так вот, по этому способу пошли мы охотиться в тайгу с одним из молодых актеров. Идти далеко не пришлось. Лес хорош, и про природу можно сказать, что она могущественна. Она была так богата, что казалась неистребимой. Днями и ночами по узкоколейкам, выходившим на будущие магистрали города, везли и везли бревна лиственницы и кедра. В тайге рубили и рубили деревья.
Тайга казалась нетронутой, словно бралась какая-то малая часть ее богатств. Дальневосточные речки чисты и прозрачны, как всегда в горах. Опала листва, и всюду виден краснотал. Его красные прутья на косогорах на фоне синего неба. Красное солнце заходит в эту красную чащу… Видели белок, следы лисы. Товарищ мой рассказывал, что до сих пор поблизости от города находят последние медвежьи берлоги. В ту же зиму в последний раз охотники видели под Комсомольском следы тигра. Зверь приходил к новостройкам и ушел по льду за Амур.
Где мы ходили в тот первый раз с другом Сашей? Вблизи Косогорного хребта, где теперь построен завод Амурсталь? Года через два я пошел на лыжах за город и увидел там море пеньков.
Все мы историю начинали с первого дня Комсомольска, когда началось строительство. А на берегу Амура оставались пахотные земли, стояли двадцать шесть домов с застекленными террасами, в пять – семь окон, довольно просторные, под крышами из оцинкованного гофрированного железа. Конечно, это были остатки старого селения. Я начал расспрашивать, кто тут жил и когда приехали сюда эти люди. Мне рассказали, что в этих домах жили русские крестьяне, потомки первых переселенцев, пришедших на Дальний Восток из России.
Для строителей и контор нужны были помещения. Жителей расселили по окрестным селам, некоторые из них, как, например, Ткачевы, ушли в нанайское стойбище за реку. Через год молодой Максим Ткачев, говоривший по-нанайски с детства, стал председателем Эканьского колхоза. Один из потомков Кузнецова пришел обратно в город, завербовавшись на стройку, и для начала выкопал себе в обрыве крутого берега Амура землянку, сложил в ней печь и жил с семьей, как его предок – первопроходец. Я бывал в этой семье. С потомком Барабанова я познакомился в Хабаровске в 1942 году. Он был профессором математики и преподавал в университете.
Я подумал: «А как же начали жить те несколько крестьянских семейств, которые попали на это место, не имея ничего? Никем не поддержанные, не приободренные, явились они на новое место с семьями. Почему они пришли? Зачем? Отчего ушли со старых мест?»
Я представил себе, как среди этой торжественной, девственной природы начинала жить кучка людей, пришедших из Центральной России.
Я разыскал старожилов и расспросил их. Я узнал, что их предки шли пешком и на лошадях через всю Сибирь в продолжение двух-трех лет, желая уйти на «вольные земли» от старой жизни. Они спускались на плотах из Забайкалья по всему огромному Амуру, тогда еще не исследованному и не обставленному створами и знаками.
Мне представилась картина, как эти люди с семьями плывут на плотах, как выходят впервые на берег…
Невольно пришло в голову, что об этом надо написать книгу.
Старая литература много писала о несчастной доле переселенцев. Мне же случалось встречать и до того и впоследствии многих бывших переселенцев, сумевших, несмотря на действительно тяжелые условия, выжить на новых местах. Сибирь и Дальний Восток с их девственной, требующей борьбы природой воспитали в этих людях особенную энергию, умение осваиваться с новыми условиями, волю и многие другие качества. Я подумал: зачем обеднять нашу прошлую жизнь, делать ее нарочито серой, видеть русский народ лишь в нищете? Я думал, что эти люди – первые переселенцы – должны были прожить очень интересную жизнь. Они представлялись мне героями.
В жизни народа были не только подъяремность и солдатчина, но и свои романтические стороны. Освоение Дальнего Востока – одна из них.
Меня привлекал исторический роман такого рода – без известных исторических лиц, о русских крестьянах, которые сделали свое дело в истории. Мне всегда казалось, что в наше время должен особенно развиться роман с героями – рядовыми людьми. Ведь великими полководцами, знаменитыми генералами и деятелями интересовались и в прежнее время. Мне представлялось, что в наше время, когда лучшие романы о современности изображают жизнь глубочайших народных масс, исторический роман также должен показывать нам прошлую жизнь народа и его роль в истории страны.
В те годы при местной газете «Сталинский Комсомольск» существовало литературное объединение. Мы решили выпустить сборник о строителях Комсомольска. Товарищи, от которых я не скрывал своего интереса к прошлому этих мест, предложили мне написать очерк об истории села Пермского – предка новорожденного города.
Мною всегда владела страсть к путешествиям. Может быть, оттого, что отец был ветеринарным врачом-чумником и всегда рассказывал о поездках, о встречах; может быть, оттого, что я с детства начитался приключенческой литературы.
Мне как на роду было написано посмотреть тайгу не отходя далеко от дома и познакомиться со здешними людьми. Я вырос на Дальнем Востоке. Кисти виноградника не были для меня в диковину, как и лианы в тайге. Меня трогало в Комсомольске сожительство человека и природы. Сама жизнь подсказывала тему. Я должен был заглянуть в прошлое, чтобы рассказать о нем молодым товарищам.
Как профессиональный охотник, я стал, фигурально выражаясь, кругами ходить по тайге, забирая все дальше и делая поездки все длительнее. Ходил и пешком, и на лодках, и на катерах, сам от себя, от редакции городской газеты, чтобы писать очерки, научился править парусом в нанайской лодке, греб я всегда хорошо; бывая на горных речках, учился грести двулопастным веселком в берестяной лодке, не мог только набраться достаточно терпения и долго толкаться шестом в нанайских и удэгейских лодках, подымаясь против звенящего камнями течения. В соседних селах я нашел потомков первопроходцев, в том числе и жителей села Пермского, стоявшего на берегу Амура, откуда начиналась гигантская площадь леса и охотничьих угодий, избранных в начале тридцатых годов под строительную площадку.
То, что рассказывали мне старожилы про давние времена, про свои старинные обычаи, про почти уже забытые приемы охоты, про здешние былые нравы, про умение сжиться с природой, не губя ее, – все это было для меня открытием целого мира.
Многому учили меня нанайцы и удэгейцы. Я вслушивался в их сказки, их речь, учился у них не только писать, но и жить. Я отправился на реку Горюн, в места самые глухие в ту пору, желая представить жизнь среди девственной природы. Тогда на Горюне не было никаких строек. Река мчала свои быстрые прозрачные воды среди дремучих, от века не рубленных лесов, между скалами и огромными завалами мертвых деревьев. Мы поднимались против течения на четырех лодках, толкаясь шестами. За целый день проходили «на шестах» не более десяти километров. Тучи мошки и комаров непрерывно вились вокруг нас. Разражались почти тропические грозы.
По дороге было всего одно стойбище, вернее – деревня, из нескольких бревенчатых домиков.
Дальнейший путь по Горюну был не менее интересен. С нами происходили разные приключения, пока мы не добрались до одного из древнейших нанайских стойбищ, расположенных вблизи озера Эворон.
Нас, пишущих о Сибири и Дальнем Востоке, часто упрекают за обилие описаний обычаев, бытовой обстановки, пейзажей; над нами подтрунивают, что мы не можем обойтись без упоминания о тиграх и медведях и, конечно же, без изображения охоты. Но ничего не поделаешь, природа края, особенности жизни людей сами так и просились в книгу. Таков уж был этот край.
Суровая жизнь дальневосточников и в прошлом, при всех ее теневых сторонах, была полна своеобразной романтики, обусловленной необычностью этих мест. А тот, кто знает жизнь современных комсомольчан, вряд ли поставит ее вне связи с окружающей природой. Кстати, я полагаю, что почти каждый рабочий и инженер в Комсомольске тоже рыбак или охотник.
Когда я вернулся в Комсомольск после лета, проведенного в тайге, я не только написал очерки для газеты, но и почувствовал себя местным жителем в большей степени, чем до сих пор, пока я ходил только по улицам города и его учреждениям.
Я знал высказывания В. И. Ленина о переселенцах. Читал книги путешественников – исследователей Дальнего Востока, газеты и журналы XIX века. Перечитал Успенского. Да и все наши классики интересовались Сибирью. Чехов гордился всю жизнь тем, что написал книгу «Остров Сахалин». Позже я узнал, что Лев Толстой хотел написать роман о переселенцах на Амур.
По собранным мною материалам и по новым своим впечатлениям я и написал зимой 1939/40 года первую книгу романа «Амур-батюшка». (Вторая книга романа была окончена в 1946 году.) Название это подсказал мне рыбак, после хорошего осеннего улова сказавший: «Кормит нас Амур-батюшка». Было это в 1938 году на так называемой Шарахандинской протоке около озера Мылки, там, где в 1975 году построен главный мост БАМа через Амур.
Одновременно писал я повесть «Мангму» о жизни охотничьих племен среди этих лесов и вод до появления здесь второй волны русских землепроходцев. Первые землепроходцы пришли сюда в XVII столетии. Память о них сохранилась в нанайских сказках и в многократно опубликованных отчетах казачьих старшин-открывателей. Я был убежден, что тем прочнее будет здание, которое мы строим, чем основательней заложен под ним фундамент. История давала нам для этого все. Нельзя забывать прошлое, как нельзя вычеркнуть из жизни литературу, музыку, народную песню. Нельзя изучать Маркса, не имея представления об эпохе, которая его сформировала.
Так я думаю сегодня о том времени, когда написал роман, который не мог считать историческим, так как сам видел живыми тех людей и ту природу, которых изображал.
Тогда еще не было писателей из малых народов края, хотя я понимал, что со временем у этих народов появятся свои мастера прозы и поэзии, которые вызовут интерес в мире. Но, подрастая уже в новое время, они не успеют увидеть в жизни своих дедов то, что довелось мне. Ключи к изображению их былого мира попали ко мне раньше, я еще наблюдал отголоски тяжести и гнета, которые оставались на старшем поколении.
Громадный материал, полученный мной в лесах и на реках от людей природы, сам по себе выстраивался композиционно. Я был подготовлен театром, работой в редакциях и чтением литературы к тому, чтобы понять, как все это красочно, ярко и своеобразно и как сложно было жить человеку тайги в прошлом.
«Амур-батюшка» и «Мангму» были написаны. Я почувствовал, что не смею остановиться. Надо идти дальше, делать следующий «круг» по жизни, объяснить, как решались важнейшие вопросы всего нашего государства на дальневосточных берегах океана не только пахотными крестьянами, превратившими ту страну в Россию, но и открывшими им путь моряками, исследователями и учеными, рисковавшими ежедневно своей жизнью и карьерой ради будущего.
Я должен был написать роман о Невельском. Я уже работал разъездным корреспондентом и побывал на Дальнем Востоке почти всюду, где прошел Невельской в молодые годы. Но этого было мало. Невельской не матрос и не амурский крестьянин, а петербуржец до мозга костей и ученый. Мне нужны были новые знания.
После войны с Японией, когда мне как корреспонденту Хабаровского краевого отделения ТАСС пришлось быть на фронте, где я также получил много нужных мне впечатлений и о японцах, и о Маньчжурии, и о жизни китайского народа, А. Фадеев и Н. Тихонов, руководившие тогда Союзом писателей СССР и знавшие о моих намерениях, направили меня в 1946 году в Ригу. Мне нужно было бы поселиться в Ленинграде, но после блокады город был разрушен, квартир не было.
Из Риги я ездил в Ленинград. Здесь я не только работал в архивах, но и обошел весь город, ходил по морям, в том числе и на парусных шхунах по Балтике и на Тихом океане. Я опять становился своим в новой среде, теперь среди людей моря. Выработался метод работы, я старался бывать там, где происходит действие моих книг, по возможности видеть потомков героев, вживаться в их среду. Двадцать пять лет я проработал над романами о Невельском, написал «Первое открытие» («К океану»), «Капитан Невельской», «Война за океан».
Но, переехав в Ригу с Дальнего Востока, я сохранил и в памяти, и в записках множество сведений и картин жизни таежных племен в далеких краях. Тут-то, на берегу Балтики, погружаясь в воспоминания и, может быть, скучая по былому, я написал повесть «Маркешкино ружье», которая вместе с «Мангму» составила роман «Далекий край».
Закончив романы о Невельском, я опять обратился к героям «Амура-батюшки». Я написал его продолжение – роман «Золотая лихорадка» – о тех же крестьянах, уже переменившихся за долгую жизнь на новых местах и превратившихся в смелых таежников. Я часто приезжал в те годы на Дальний Восток.
Потом опять по принятому мной способу я плавал по морям, пожил в Японии и в течение десяти лет написал романы о русских моряках и дипломатах, которые вместе с адмиралом Путятиным открыли в прошлом веке новую эру в наших отношениях со Страной восходящего солнца. Это были романы «Цунами», «Симода», «Хэда».
Теперь я пишу роман или, вернее, романы об основании города и порта Владивостока. Первая книга этого цикла, «Гонконг», напечатана. Тема эта важная для истории нашего народа и государства, требует от меня новой большой работы.
Я сохраняю убеждение, что исторический роман может быть современен, если он помогает людям думать о своей судьбе, о великом опыте человечества.
Сентябрь 1986 г.
Н. Задорнов
Книга первая
Глава первая
От сибирских переходцев Егор Кузнецов давно наслышался о вольной сибирской жизни. Всегда, сколько он себя ни помнил, через Урал на Каму выходили бродяжки. Это был народ, измученный долгими скитаниями, оборванный и на вид звероватый, но с мужиками тихий и даже покорный.
В былое время, когда бродяжки были редки, отец Егора в ненастные ночи, случалось, пускал их в избу.
– Ох, Кондрат, Кондрат, – дивились на него соседи, – как ты не боишься? Люди они неведомые, далеко ли до греха…
– Бог милостив, – отвечал всегда Кондрат, – хлеб-соль не попустит согрешить.
Бродяжки рассказывали гостеприимным хозяевам, как в Сибири живут крестьяне, какие там угодья, земли, богатые рыбой реки, сколько зверей водится в дремучих сибирских лесах. Среди бродяг попадались бойкие рассказчики, говорившие как по книгам. Наговаривали они и быль и небылицы, и хорошее и плохое. Все же по рассказам их выходило, что хоть сами они и ушли почему-то из Сибири, но сторона там богатая, земли много, а жить на ней некому.
Да и не одни бродяжки толковали о матушке-Сибири. Сельцо, где жили Кузнецовы, расположено было на самом берегу Камы, а по ней в те времена шел путь в Сибирь. Егор с детских лет привык жить новостями о Сибири, любил послушать проезжих сибиряков и всегда любопытствовал, что туда везут на баржах или по льду, что оттуда, какова там жизнь, каковы люди. Мысль о том, что хорошо бы когда-нибудь и самому убежать в Сибирь, еще смолоду укоренилась в голове Егора. На то, чтобы уйти с родины, были и у него разные причины. Но до поры желание это было как бы спрятано где-то в потайной кладовой про запас; и лишь когда у Егора случались неудачи или нелады с односельчанами, он извлекал его из тайника и утешался тем, что когда-нибудь оставит здешнюю незадачливую жизнь, соберется с духом, перевалит в Сибирь и станет жить там по-своему, а не как укажут люди.
И женился Егор на свободной сибирячке. Неподалеку от сельца были заводы. Крестьяне ходили туда на работы. Егору тоже доводилось жить на куренях[1], на углесидных кучах[2] и работать на сплавах. Одну зиму пришлось ему прожить на соседнем заводе. Там встретил он славную, красивую девушку, дочь извежога, присланного на завод с азиатской стороны Урала. Егор и Наталья полюбили друг друга. На другой год Егор уломал отца заслать сватов, и в промежговенье, перед великим постом, свадьбу сыграли.
Между тем за последние годы движение в Сибирь оживилось. Началось это еще до манифеста[3], после того как в народе прошел слух, что открыли реку Амур[4], которая течет богатым краем, что там хорошая земля, зверя и рыбы великое множество, а населения нет и что туда скоро станут вызывать народ на жительство.
– Сперва-то вызовут охотников, а не сыщется охотников, пошлют невольников, – говорил по этому поводу дед Кондрат.
Старик с годами стал сдавать, хотя мог еще целый день промолотить в мороз без шапки, но уж головой в доме стал Егор.
После манифеста в Сибирь повалило множество народу, туда повезли пушки, товары и машины, гнали солдат и арестантов, ехали купцы, попы, чиновники, выкочевывали вольные переселенцы и переселенцы по жребию, скакали курьеры.
Вскоре в народе, как и предсказывал дед, стали выкликать охотников заселять новые земли на Амуре. По деревням ездили чиновники и объясняли крестьянам, что тем, кто пойдет туда, переселенцам, предоставляются льготы. С них снимали все старые недоимки, а на новых местах наделяли землей, кто сколько сможет обработать, обещали не брать налогов и освобождали всех их вместе с детьми от рекрутской повинности.
На старом месте жить Егору становилось тесно и трудно. Жизнь менялась, село разрослось, народу стало больше, а земли не хватало. Торгашество разъедало мужиков. Кабаки вырастали по камским селам, как грибы после дождя. У богатых зимами стояли полные амбары хлеба, а беднота протаптывала в снегах черные тропы, бегая с лукошками по соседям.
Егор год от году все больше не ладил с деревенскими воротилами, забиравшими мало-помалу в свои руки все село. За поперечный нрав богатеи давно собирались постегать его. Однажды в воскресенье у мирской избы шло «ученье»: миром драли крестьян за разные провинности. В те времена так случалось, что ни в чем не повинного человека секли время от времени лозами перед всем народом единственно для того, чтобы и ему было неповадно, чтобы и его уравнять со всем драным и передранным деревенским людом. Обычай этот долго не переводился на Руси.
Егор шел мимо мирской избы. Он был малый крепкий и крутой, но мужики по наущению стариков-богатеев к нему все же подступили: им было не в диковину, что ребята и поздоровей его ложились на брюхо и задирали рубаху. Как только один из мужиков, не глядя Егору в глаза, сказал, что` велят старики, Кузнецов весь затрясся, лицо его перекосилось. Сжав кулаки, он кинулся на мужиков и прикрикнул на них так, что они отступились, и уж никто более не трогал его с тех пор.
Кузнецовы, так же как и все жители сельца, были до манифеста государственными крестьянами[5]. Помещика они и раньше не знали и жили посвободней крепостных. Егор всегда отличал себя от подневольных помещичьих крестьян и гордился этим. К тому же он был еще молод, дерзок на язык и крепок на руку и при случае мог постоять за себя.
Если бы деревенским воротилам удалось его унизить, отстегать на людях, они, пожалуй, и перестали бы сердиться на него и дали бы ему от общества кой-какие поблажки. Но Егор в обиду себя не давал, и они держали его в строгости. Он многое терпел за свою непокорность.
Егор жил небогато. Да и не мог он разбогатеть. Он работал в своем хозяйстве прилежно, но особенного интереса, пристрастия к этой работе не чувствовал. Жадностью и корыстью он не отличался. Жизнь его кругом стесняла, и его силе негде было разгуляться.
– Ты, Егор Кондратьич, с прохладцей живешь, – как-то раз сказал ему сельский учитель.
– Это жизнь какая! – отвечал Егор. – Она набок идет, никак не уживусь с кулаками, будь они неладны!
– Тебе надо в Сибирь выселяться!
– Пошто же это мне тут-то не жить? – насторожился было Егор, не зная, как понять такую речь.
– Ты бы там горы своротил, а тут они тебе не дают дороги. Вся твоя сила тут прокиснет. А там жизнь вольнее.
Егор ничего не ответил, но слова эти запомнил. Он и сам полагал, что не весь свет населен вредными людьми и что где-нибудь да живет ладный народ. Такой страной представлялась ему Сибирь.
Когда стали выкликать охотников на Амур, дело решилось само собой, словно Кузнецовы только этого и ждали. К тому же не за горами было время, когда по рекрутской очереди младшему брату Егора, Федюшке, предстояло идти в солдаты. На Амуре же никакой рекрутчины не было.
Семейство Егора к тому времени состояло из отца, матери, брата Федюшки и жены Натальи с тремя детьми: Петькой, Васькой и девчонкой Настей. Наталья тоже желала избавить в будущем своих сыновей от солдатчины и стояла за переселение. Бабка Дарья, еще моложавая и бойкая женщина, поддалась уговорам сына быстрей старика. Она хорошо понимала своего Егора, и если сначала не соглашалась переселяться, то делала это не от души, а более для того, чтобы испытать, не отступится ли сын от своего замысла. Егор стоял крепко на своем, и мать согласилась. С трудом уломали деда Кондрата.
Егор записался в переселенцы.
Семья оживилась и стала дружно собираться в далекий путь. Тут-то и оказалось, что у Егора уже многое обдумано и многое заранее подготовлено для дороги, а когда он обо всем этом думал, он и сам не мог бы сказать.
Осенью Кузнецовы сняли урожай, намололи муки на дорогу, набрали семян из дожиночных колосьев, с тем чтобы посеять их на заветном амурском клине, справили лошаденкам сбрую, продали избу, скот и хозяйство, расплатились с долгами.
Отслужили напутственный молебен, бабы поплакали-поревели, и в добрый час, простившись с родной деревней, Кузнецовы двинулись в далекий путь.