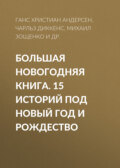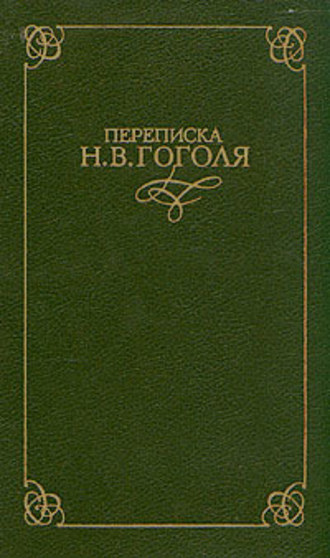
Николай Гоголь
Переписка Н. В. Гоголя. В двух томах
Гоголь – Аксакову С. Т., 16(28) августа 1847
16 (28) августа 1847 г. Остенде [1185]
Остенде. Август 28.
В любви вашей ко мне я никогда не сомневался, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Напротив, я удивлялся только излишеству ее, тем более, что я на нее не имел никакого права: я никогда не был особенно откровенен с вами и почти ни о чем том, что было близко душе моей, не говорил с вами, так что вы скорее могли меня узнать только как писателя, а не как человека, и этому, может быть, отчасти способствовал милый сын ваш Константин Сергеевич. В противность составившейся в Москве обо мне сказке, которой вы так охотно верите, что я, т. е., люблю угождения и похвалы каких-то знатных маниловых, скажу вам, что я скорее старался отталкивать от себя, чем привлекать всех тех, которые способны слишком сильно любить; я и с вами обращался несколько не так, как бы следовало. Обольстили меня не похвалы других, но я сам обольстил себя, как обольщаем себя мы все, как обольщает себя всяк, кто сколько-нибудь имеет свой собственный образ мыслей и слышит в чем-нибудь свое превосходство, как обольщает себя, в великодушных мечтах своих, и любезный сын ваш Константин Сергеевич, как обольщаем мы себя все до единого, грешные люди; и чем кто больше получил даров и талантов, тем больше себя обольщает. А демон излишества, который теперь подталкивает всех, раздует так наше слово, что и смысл, в котором оно сказано, не поймется.
Не сердитесь на <Смирнову>; не называйте ее безрассудною женщиною. Женщина эта почтена была короткою дружбой Пушкина и Жуковского, которые любили ее именно но за здравый рассудок и за добрую душу. Она меня знала еще прежде, чем вы меня знали, – знала как человека, а не как писателя, видела меня в те душевные состояния мои, в которые вы меня не видели. С ней мы были издавна как брат и сестра, и без нее, бог весть, был ли бы я в силах перенести многое трудное в моей жизни; а потому и немудрено, что, несмотря на пристрастие ее ко мне, многое в моей книге она почувствовала полней и не перетолковала в такую превратную сторону, как перетолковали вы.
Да, книга моя нанесла мне пораженье; но на это была воля божия. Да будет же благословенно имя того, кто поразил меня! Без этого поражения я бы не очнулся и не увидал бы так ясно, чего мне недостает. Я получил много писем очень значительных, гораздо значительнее всех печатных критик. Несмотря на все различие взглядов, в каждом из них, так же как и в вашем, есть своя справедливая сторона. Но вывести вполне верного заключения о всей книге вообще никто не мог, и немудрено. Осудить меня за нее справедливо может один тот, кто ведает помышления и мысли наши в их полноте. Из нас же, грешных людей, может справедливее других произнесть ей окончательный суд только тот, кто имеет полный ум, способный обнимать все стороны дела, и не влюбился еще сам ни в какую свою собственную мысль; потому что, как бы то ни было, несмотря на все ребячество и незрелость этой книги, в ней видны следы взгляда более полного, чем у тех, которые делают на нее замечания и критики, несмотря на то, что в авторе ее и нет тех знаний, какие могут быть по частям у всякого критика.
К чему вы также повторяете нелепости, которые вывели из моей книги недальнозоркие, что я отказываюсь в ней от звания писателя, переменяю призванье свое, направление и тому подобные пустяки? Книга моя есть законный и правильный ход моего образования внутреннего, нужного мне для того, чтобы стать писателем не мелким и пустым, но почувствовавшим святость и своего звания, как и всех других званий, которые все должны быть святы. Выразилось все это заносчиво, получило торжественный тон от мысли приближения к такой великой минуте, какова смерть. А дьявол, который надмевает всякого из нас самоуверенностью, раздул до чудовищности кое-какие места. Невоздержание заставило меня издать мою книгу. Видя, что еще не скоро я совладаю с моими «Мертвыми душами», и скорбя истинно о бесхарактерности направления и совершенной анархии в литературе, проводящей время в пустых спорах, я поспешил заговорить о тех вопросах, которые меня занимали и которые готовился развить или создать в живых образах и лицах. Опрометчивая, а по-вашему несчастная, книга вышла в свет. Она меня покрыла позором, по словам вашим. Она мне, точно, позор; но благодарю бога за этот позор, благодарю за то, что попустил он явиться ей в свет. Не увидел бы я без ней ни неряшества моего, ни самоослепления, ни многого того, чего не хочет видеть в себе человек; не изъяснилось бы без нее много того, что мне необходимо нужно знать для моих «Мертвых душ», и не узнал бы, ни в каком состоянии находится наше общество, ни какие образы, характеры, лица ему нужны и что именно следует поэту-художнику избрать ныне в предмет творения своего.
Друг мой! не будьте и вы так же самоуверенны в непреложности своих заключений. Повторяю вам вновь: по частям разбирая мою книгу, вы можете быть правы, но произнести так решительно окончательный суд моей книге, как вы произносите, это гордость в уме своем. Мне показалось даже, как бы в устах ваших раздались не ваши, а какие-то юношеские речи, как бы в этом месте вашего письма сказал, несколько понадеясь на себя, Константин Сергеевич, а не вы. В них отзывается такой смысл: «Твоя голова не здрава, а моя здрава; я вижу ясно вещь и потому могу судить о тебе». Друг мой, теперь такое время, что вряд ли у кого из нас здрава, как следует, голова. Глядеть на меня, как на блудного сына, и ожидать моего возвращения на путь истинный может только тот, кто сам стоит уже на этом истинном пути. А это один только бог ведает, кто из нас на каком именно месте стоит. Лучше всем нам иметь больше смирения и меньше уверенности в непреложной истине и верности своего взгляда. Что касается до меня, я буду от всех моих сил, сколько их есть во мне, молиться богу на тех самых местах, которые зрели его в образе Христа, чтобы простил мне за все, на что подтолкнула меня моя самоуверенность, гордость и самоослепление.
За ваше гостеприимно-дружеское приглашение остановиться у вас во время приезда моего в Москву благодарю от души, но не воспользуюсь им только потому, что в рассуждении помещения своего гляжу просто на материальные удобства. Во всяком случае, у кого бы то ни остановился, вы этого никак не считайте знаком какого-нибудь предпочтения или чего другого, тому подобного. Притом, если бог благословит возврат мой в Россию, я в Москве не думаю пробыть долго. Мне хочется заглянуть в губернии: есть много вещей, которые для меня совершенная загадка покуда, и никто не может мне дать таких сведений, как бы я желал. Я вижу только то, что и все другие так же, как и я, не знают России.
Что касается до зимнего моего пребывания, то я еще не уверен, останусь ли на зиму в России. После моей последней тяжкой болезни во мне осталась такая зябкость, что даже Рим стал для меня холоден, и я должен был переехать в Неаполь. Последняя зима, проведенная мною в Москве, мне была очень тяжела и оставила грустное воспоминание. Натура моя сделалась несколько похожею на стариковскую, требующую юга: крови мало, и та движется медленно; а нервы в то же время так чувствительны, что малейшая северная мгла действует сильно, от морозного же дня у меня захватывает дух в груди. Вы говорите, что воздух родины подействует благотворно на мое здоровье, и сами надеетесь тоже себе возобновления сил. Друг мой, не позабудем того, что вы находитесь уже в тех летах, когда невозможен совершенный возврат прежнего здоровья; а я, будучи слабым и болезненным от дня рождения моего и перешедши за лучшую половину жизни моей, не могу тоже быть тем, чем был прежде. Будем лучше просить бога о том, чтобы остальные дни наши помог нам провести в полном мире с совестью нашей, где бы ни случилось нам провесть их, и чтобы хоть чем-нибудь дал нам возможность загладить часть прежнего, искупя хоть чем-нибудь бесполезность и праздность нашей жизни.
Мне кажется, что, если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми, с которыми случилось вам встретиться, с верными описаниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека[1186]. Это не безделица и не маловажный подвиг в нынешнее время, когда так нужно нам узнать истинные начала нашей природы, которые покуда мы рассматриваем только в мужике, да и то плохо.
Но прощайте. Бог да хранит вас! Благодарю Ольгу Семеновну: мне кажется, что она обо мне молится. Это лучшая услуга, какую только на земле мы можем оказать своему брату.
Ваш Н. Г.
Гоголь – Аксакову С. Т., 6(18) декабря 1847
6 (18) декабря 1847 г. Неаполь [1187]
Шевырев мне пишет, что в моем письме к вам было что-то для вас огорчительное, так что он даже не хотел вам показывать, опасаясь им расстроить вас[1188]. Правда ли это, любезный друг мой? Ведь мы обещали писать друг другу все чувства и ощущения, как они есть, не скрывая ничего, хотя бы в них было и неприятное для нас. Если в письме моем нашлось кое-что занозистое и колкое, то это ничуть не дурно. Это новые горючие вещества, подкладываемые в костер дружбы, который без того пламенел бы лениво и вяло, что всегда почти бывает, если друзья живут вдали друг от друга. Рассудите сами, что за соус, если не поддадут к нему лучку, уксусу и даже самого перцу, – выйдет пресное молоко.
В письме моем к вам я сказал сущую правду: я вас любил, точно, гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти. Но любить кого-либо особенно, предпочтительно я мог только из интереса. Если кто-нибудь доставил мне существенную пользу и чрез него обогатилась моя голова, если он натолкнул меня на новые наблюдения или над ним самим, над его собственной душой, или над другими людьми, словом, если чрез него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уже того человека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой, хоть он и меньше меня любит. Что ж делать, вы видите, какое творенье человек, у него прежде всего свой собственный интерес. Почему знать, может быть, я и вас полюбил бы несравненно больше, если бы вы сделали что-нибудь собственно для головы моей, положим, хоть бы написаньем записок жизни вашей, которые бы мне напоминали, каких людей следует не пропустить в моем творении и каким чертам русского характера не дать умереть в народной памяти. Но вы в этом роде ничего не сделали для меня. Что ж делать, если я не полюбил вас так, как следовало бы полюбить вас. Кто же из нас властен над собою? и кто умеет принудить себя к чему бы то ни было? Мне кажется, что я теперь все-таки люблю вас больше, нежели прежде, но это потому только, что любовь моя ко всем вообще увеличилась, она должна была увеличиться, потому что это любовь во Христе. Так я уверен. А на самом деле, может быть, и это ложь и я ничуть не умею любить лучше, чем прежде. Поэты лгут иногда невинным образом, обманывая сами себя. Рожденные понимать многое, постигать мыслию красоту чувств и высокие явленья в душе человеческой, они часто думают, что уже вмещают в самих себе то, что могут только несколько оценить и с некоторой живостью выставить на глаза другим, и величаются чужим, как своим собственным добром. Напишите мне что-нибудь. Письмо ваше еще застанет меня в Неаполе. Пожалуйста, не глядите на то, если какая колкость слетит с пера. Что толку в пресном молоке!
Весь ваш Г.
Аксаков К. С. – Гоголю, май 1848
Май 1848 г. [1189]
Наконец вы в русской земле[1190], любезнейший Николай Васильевич, наконец я пишу к вам – и не за границу! Шесть лет! Порядочно. Но как говорить мне с вами теперь? Многое было не высказано, а невысказанные слова остаются в душе или оставляют в ней след. Во всяком случае, полная откровенность необходима: без нее не может быть прямых отношений. Я должен сказать вам все, что у меня на душе. Лучше или прямо не сойтись, или прямо сойтись. Особенно же, когда с человеком был в коротких отношениях, такая полная откровенность есть настоятельная необходимость; кто не шутя думает о короткой приязни, тот не станет смущаться и останавливаться, чтобы сказать всю правду по своему мнению. Вы сами, я думаю, это знаете, и больше об этом толковать нечего.
Я писал вам длинное письмо по выходе в свет вашей книги; оно было довольно жестко; я написал уже много, но еще не кончил и потерял его. Подумав, что, может быть, это и лучше, что, может быть, не надо давать воли негодованию, когда в душе одно негодование, и только, я не начинал нового письма. Но теперь вы уже в России; ваша простая записочка[1191] так просто отозвалась в нас, что, сколько мне кажется, негодование не ослепит меня. Батюшка также думает о вашей записочке: видит в ней дружеские, простые строки. Николай Васильевич, нечего мне говорить вам об общей нашей и о своей дружбе, хотя, мне кажется, вы понимали ее вроде какой-то привязанности, подчиненной с моей стороны, чего никогда не бывало: в таком чувстве нет прочности, ни глубины, не может быть истины, а главное, нет свободы. Как бы то ни было, года два-три, не более, может быть, не таким уже являлись вы мне, как прежде. Не думаю, чтобы я ошибался, а думаю, что вы переменились. Если вы увидите в этих словах моих самонадеянность, вы ошибетесь. Ваши важные и еще более важничающие письма, с их глубокомыслием, часто наружным, часто ложным, ваши благотворительные поручения с их неискреннею тайной, ваше возмутительное предисловие ко второму изданию «Мертвых душ», наконец, ваша книга, повершившая все, далеко оттолкнули меня от вас. Я нападал на вас и дома и в обществе почти так же горячо, как прежде стоял за вас. Не знаю, дошли ли до вас слухи об этом, – я думаю, что дошли. Ваши дополнительные письма еще более усиливали негодование. Знакомство же со Смирновой, воспитанницей вашей, еще более объяснило и вас, и ваш взгляд, и состояние души вашей, и учение ваше ложное, лживое, совершенно противуположное искренности и простоте. Говоря о книге вашей, говоришь вместе о всем том, что в вас, как я думаю, недобро.
Во всем, что вы писали в письмах и в книге вашей особенно, вижу я прежде всего один главный недостаток: это ложь. Ложь не в смысле обмана и не в смысле ошибки – нет, а в смысле неискренности прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собою, внутренняя непростота и раздвоенность, которая является перед миром и перед самим человеком, как скоро он выражает себе эту неправду как что-то цельное. От этого он не менее виноват; виноват, что допустил эту ложь, виноват, что не заметил ее и вынес ее еще с тайною гордостью напоказ. Такая ложь, ложь внутренняя, рядится всего более в одежду правды, искренности, простоты и прямоты. Такова ваша книга. Ложь у французов, у этого народа детей, смешных и жалких детей (не во внутреннем значении слова, но по внешней недозрелости), принимает надутые формы, рядится в эффекты, становящиеся от ограниченности их народа наивными. Что же? И у вас прорвалась природа лжи, и у вас есть надутые и такие студеные фразы, которых странно, как сами вы не заметили. Но вы не француз, и эти фразы у вас не смешны, не наивны, а возмутительны. Ложь лжет истиной, а гордость рядится смирением. Затронуты нравственные глубины, и оба зла совпадают. Такова опять ваша книга. Или не видите вы страшной гордости, одетой в рубище, которое носит она, как драгоценное платье? В вашей книге нет даже того трудного пути унижения искреннего, которым доходит человек, часто с болью, до смирения, и иногда, тут же, грешит гордостью; не видать, чтобы вы со стыдом вперва надели рубище духа и потом возгордились им как драгоценностью. Нет, вам прямо понравилось смирение, прямо полюбилось рубище; вы приняли смирение, облеклись в рубище очень довольные; оно досталось вам без труда и борьбы: вы поняли красоту смирения. К вам привилось внутреннее зеркало, сопровождающее вас всюду и в движениях внутренних души; вы уже успели вмиг посмотреться в зеркало. Вы лежите в прахе и видите себя, как вы лежите в прахе.
О, зеркало, зеркало внутреннее, о, внутреннее кокетство! Хуже оно наружного. Знаю я этот грех: я сам им страдаю. Но кажется мне, я вижу его, и потому я не проповедую смирения, потому что слишком высоко ценю его, и смиренным себя не выставляю. Давно уже много ценю я простоту, и ценю ее с каждым днем более и более. Простоты я не вижу в вас. Потом: самые мысли ваши ложны; вы дошли до невероятных положений. Таково письмо о семи кучках[1192], непостижимое, возмутительное; о, сколько хитрости и искусственности в нем! Таково письмо ваше к Жуковскому[1193], письмо, так сильно противоречащее, по-моему, вере православной. Да и мало ли еще других мест, ложных уж и по мысли своей, в письмах ваших!
В подробности вдаваться я не стану, а укажу еще на великий проступок ваш: на презрение к народу, к русскому простому народу, к крестьянину. Это выражается в вашем предисловии ко второму изданию «Мертвых душ», это выражается в письмах ваших, в вашей книге, особенно в наставлении помещику[1194], где грубо и необразованно является незнаемый и, к сожалению, не подозреваемый вами даже народ и где помещик поставлен выше, как помещик, и в нравственном отношении. Странная нравственная аристократия, странное основание духовного достоинства! Недостает, чтобы вы сказали, что тот, у кого больше душ, выше в нравственном отношении. Вот великая вина: поклонение перед публикою и презрение к народу[1195]. Знаете вы знаменитое восклицание полицеймейстера: «Публика вперед, народ назад»? Это может стать эпиграфом к истории Петра, это слышно и в вашей книге. Но знаете ли вы, которые говорите о простоте и смирении, что простота и смирение есть только у русского крестьянина? Вот почему так высок он – выше всех нас, выше писателей, и вкривь и вкось о нем толкующих и не знающих его. Как же могло это случиться, что вы, Николай Васильевич, человек русский, так не понимаете, не предполагаете русского народа, что вы, столь искренний в своих произведениях, стали так глубоко неискренни? Ответ на это прост. Не вы ли, в ложном мудрствовании, бросили свою землю, бежали из России и шесть лет были вне ее, не дышали ее святым, нравственным воздухом? Не вы ли, беглец родной земли, жили на Западе и вдыхали в себя его тлетворные испарения? Или вы думаете, что ничего не значит для человека то окружение, в котором он находится? Не вы ли собирались ехать в Иерусалим, шесть лет, у святого Петра, в католическом Риме или в других землях? Не Успенский собор, не Софийский, не православная Русь и не пу́стыня готовили вас к подвигу, и вот что произвели эти шесть лет! Подвиг совершен. О нем я не говорю и говорить не смею, но говорю вам о вашей деятельности до этого подвига. Нет имени святее Веры, и чем святее имя, тем больнее его злоупотребление: таковым кажется мне ваша деятельность в эти шесть лет. Книгу вашу считаю я полным выражением всего зла, охватившего вас на Западе. Вы имели дело с Западом, с этим воплощенным лгуном, и ложь его проникла в вас.
Есть, мне кажется, и другая причина: вы погрешили вашим достоинством, даром, художничеством. Перестав писать и подумав о подвиге жизни, вы, в подвиге личной вашей жизни, себя сделали предметом художества; но это вопрос другой, и то самое, что было искренно в искусстве, стало ложно в жизни. Искусство не жизнь. Искусство – обман: оно может быть искренно как обман, но оно станет просто обманом, как скоро перейдет в жизнь. Искусство непременно раздельно внутри: жизнь есть цельное живое дело. Актер-художник прост на сцене, но самый естественный актер-художник в жизни – все актер. Ваше погрешение есть погрешение художника. Художник отнял у себя предмет художественной деятельности и обратил свою художественную деятельность на самого себя и начал себя обработывать то так, то эдак, точно так же, как актер, превосходно игравший роли, бросив играть, станет разыгрывать себя в жизни. Сверх того, вас пленила, как сказал я выше, художественная красота подвига, вы предались ей, этой опасной красоте, столь облыгающей веру и чувство и принимающей на себя их образ, столь соблазнительной, прекрасной и столь ложной, в настоящей живой жизни и в настоящей истинной истине.
Вот что я думаю об вас, что высказываю я вам прямо. Но боже меня сохрани произносить вам приговор: напротив, я уверен, что святая Русь благотворна для вас.
Я так много написал вам о вас самих, что немного уже места написать о себе; впрочем, мне самому хочется сказать вам, что теперь думаю, что на душе. Мы так долго не говорили с вами. Хотя и в том, что написал я вам об вас, вы видите уже образ моих мыслей, но мне хочется, сколько поместится на этом листе, написать вам собственно о себе, хотя сколько-нибудь. Может быть, вы напишете тоже к нам.
Я все тот же: еще более стою за Русскую землю, еще сильнее против Запада, но, кажется, взгляд мой и на это и на другое стал яснее, и больше я узнал. В высшей степени противна мне красивая ложь, красивые эффекты Запада, которые тем самым уже исключают правду. Неотъемлемая принадлежность Запада – картинка, хотя ложь основания не в ней. А как могущественна картинка над человеком! Для нее много делается блестящих, но, в сущности, бесплодных дел. Эта ложь вошла в правду русской жизни. Западное влияние у нас есть и медленно уступает русскому началу. Да и как не быть ему сильну, когда оно поблажает всем порокам человека, избавляет от труда и простоты истины и дает вам милую, легкую, красивую и затейливую ложь? Последние события в Западной Европе обнаружили всю ее гнилость[1196]. Авось теперь поймет наше общество вред западного влияния и, видя, что оно у нас есть, постарается освободиться от него со всеми его искушениями и прийти к народной русской жизни. Я тот же, но, однако, я много переменился, Николай Васильевич. Я оставил немецкую философию, русская жизнь и история стали мне еще ближе, и главное, основное для меня то, о чем вы думаете и говорите, – вера, православная вера. Признаюсь, когда в книге вашей находил я слова об ней, которые ей противоречили, это оскорбляло меня тем более. Я, кажется, стал серьезнее, но думаю, не по наружности. Читали ли вы статью Хомякова в «Московском сборнике»?[1197] Вы очень ошибочно смотрели на русское направление: из слов ваших, довольно легкомысленно сказанных, видно, что оно вовсе вам не известно[1198]. Надеюсь, что письмо это не будет принято вами враждебно. Я пишу к вам по-старому. Прощайте, любезнейший Николай Васильевич, обнимаю вас.
Надеюсь, ваш по-прежнему Константин Аксаков.