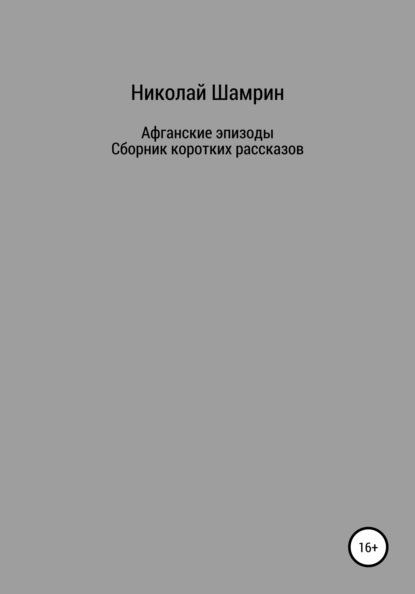- Рейтинг Литрес:4.6
Полная версия:
Николай Шамрин Истории Юрия Иваныча
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Николай Шамрин
Истории Юрия Иваныча
Орден от Генсека
Остановившись перед дверью, я похлопал по карманам и вспомнил, что не брал с собою ключи. Хозяйка, баба Маша, у которой мы снимали комнату, уехала в Литву за покупками, а жена и дочка уже как полтора месяца гостили у родителей. «Надо же? – тоскливо подумал я, – в кои веки удалось входной на полдня заполучить и такая оказия! Придётся ждать хозяйку. Когда теперь она приедет? Ничего, впредь умнее буду» Я вышел во двор и присел на скамейку. Было тепло и солнечно, весна уже давно преодолела свой пик и народ жил в ожидании приближающегося сорокалетия Победы. В нашем небольшом городе проживало много ветеранов, большинство из которых заканчивали войну именно здесь, в бывшем Тильзите. От нечего делать я напряг память, пытаясь вспомнить хотя бы одного молодого жильца в наших домах и не смог. Выходило, что самым молодым был я. Ну и моя жена. Правда, жильцами мы были временными, до тех пор, пока не надоели бабе Маше. Хозяйкой она была, что называется с норовом, и сразу же определила рамки нашего сосуществования. «Вот, что ребята, – говаривала она, принимая плату за месяц, – деньги я с вас беру по-божески, потому не обессудьте: готовить-кормить не буду, и с ребёночком тоже сидеть не стану. Даже за плату. Ваше дитё, вот сами и справляйтесь. Ну и на мой хлеб-соль чтобы не рассчитывали». Условия и впрямь были неплохими, правда не было ванной и горячей воды, зато присутствовали остальные удобства. Ладно, всё равно лучшего жилья нам найти не удалось, новых домов в городе не строили, оставалось надеяться лишь на чудо.
Из-за угла показался сосед, Юрий Иваныч и, хотя его квартира была на одной площадке с нашей, общались мы с ним крайне редко. Из разговоров с бабой Машей, я знал, что он был одинок, безалаберен и лёгким на подъём. Несмотря на солидный возраст, мужчина выделялся высоким ростом, абсолютно прямой спиной и широченными, мощными плечами. Он вообще не был похож на сверстников: длинные, седые, со вкраплением чёрного, волосы и окладистая борода, не старили его, а наоборот, скрадывали прожитые им годы, и лишь чуть подслеповатый взгляд, из-за толстых стёкол стареньких очков, выдавал весьма почтенный возраст. Честно говоря, у меня язык не поворачивался назвать соседа стариком.
Ещё издали заметив меня, Юрий Иваныч круто развернулся и, слегка прихрамывая, направился к скамейке. Остановившись и отдышавшись, он дружелюбно спросил:
– Чего сидим, соседушка? Или Машка не пущает? Она говорила намедни, что устала от жильцов.
Я приподнялся со скамейки:
– Нет. Баба Маша в Литву уехала, поделки свои швейные продавать. Ну и за покупками, а я ключи дома забыл. Вот и сижу, жду, не ломать же замок…
Сосед одобрительно хмыкнул:
– Замок ломать – не дело. За новым в ту же Литву ехать надо, а это накладно, да и цельный день на поездку уйдёт. Ты, вот что, паря, ко мне пойдём, там и дождёшься свою хозяйку. Тем более, – он потряс авоськой, сквозь ячейки которой торчали горлышки винных бутылок, у нас будет чем заняться. Два часа в очереди стоял за винищем, но всё же и на меня хватило.
– Да неудобно как-то… напрягать вас, – честно говоря, мне не очень хотелось идти в душную квартиру, – здесь подожду. Наверное, хозяйка уже скоро появится.
Юрий Иваныч с удивлением посмотрел мне в лицо, ему и в голову не могло прийти, что кто-то может отказаться от столь заманчивого предложения. Почесав голову, он сказал почти приказным тоном:
– Ты, не кобенься, сосед. Я тебя не на поминки зову. Посидим, выпьем малёхо, День Победы ведь скоро. Да и мне в одиночку с таким богатством не справиться, – приподняв для пущей убедительности полную авоську, он торжественно закончил, – у меня и с закуской полный порядок. А Манька ещё не скоро от лабусов вернётся. Помяни моё слово!
Я поднимался по лестнице вслед за Юрием Иванычем и вслушивался в его негромкое бормотание:
– Ишь, взяла моду, чуть что, в Литву шастать. Оно, конечно, понятно: и мясо там, и колбаса, и сыров вдосталь; но хоть бы раз бутылку водки мне в подарок привезла. Нет. Говорит: «Не буду тебя спаивать, Юра. Ты мне живой нужон. А зачем я ей живой? Я, может быть, и не упомню себя тверёзым, но понимание имею, – остановившись на площадке, он подвёл итог нашему короткому путешествию, – ты, не бери в голову, сосед, это она просто сболтнула. Не будет Машка от жильцов отказываться. Зачем ей это? Платишь ты аккуратно, ну и по хозяйству, когда ни то, помогаешь. Ты ей мужа её первого напоминаешь, она говорит, что тот таким же служакой был. Заходи, не стесняйся, будь как дома.
Я остановился на пороге комнаты, не решаясь пройти к столу без хозяина, тот сразу направился на кухню, очевидно решив блеснуть своими кулинарными талантами. Назвать помещение жилым можно было только с большой натяжкой: из мебели в нём присутствовали кровать, шкаф и круглый, сильно обшарпанный стол, вероятно помнящий ещё своих немецких хозяев. Картину завершали два стула-ветерана, откровенно говорящие о своей колченогости, а на подоконнике стоял древний телевизор с экраном размером с блюдце. За спиной послышалось дыхание соседа:
– Чего встал как чужой? Проходи, устраивайся. Только осторожно, у стульев ножки подломаны, всё руки не доходят отремонтировать. Да и лень, честно говоря. Сидай, уже всё готово, сейчас стол накрою.
– Может помочь? – спросил я, придерживаясь неписанного этикета.
– Сам справлюсь. Отдыхай покамест.
Юрий Иваныч довольно оглядел застеленный газетами стол:
– Ну, вот и ладушки. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Картошечку, вот поджарил, с лучком. Хлебушек свежий и килька в томате. Что ещё нам, мужикам, для закуси надо? Правильно, сало! Мне Манька с прошлого раза из Литвы привезла, да я и забыл про него. Так цельный месяц в морозилке и пролежало.
Я поддакнул хозяину:
– Да, ничего не скажешь, стол богатый, – для пущего правдоподобия обвёл глазами круглую поверхность, и не к месту спросил, – а, что с телевизором, сломался?
Пожалуй, сосед не на шутку обиделся:
– Сломался? Да ты, что? Это же КВН 49! Он у меня ни разу не ломался. Менял, правда, пару ламп, всего-то делов. Просто линза куда-то запропастилась, лет восемь назад, вот я его на подоконник и поставил.
Я огляделся по сторонам: кроме подоконника телевизор ставить было некуда. Юрий Иваныч по-своему расценил моё движение головой:
– Вообще-то, на кой он мне нужен? Продать хотел, да не берёт никто, старый говорят. Ну и пусть себе… Мне его в премию выдали, шестидесятом году. Я наладчиком на ЦБЗ тогда работал, вот за ударный труд и наградили. Ладно, Господь с ним, кэвээном! Давай лучше выпьем, а то заболтались мы с тобой.
Взяв в руки бутылку, поднёс её вплотную к глазам:
– Совсем зрение ослабло. Когда к прилавку добрался, даже спрашивать не стал, взял, что дали, только деньги с кошёлкой сунул продавцу и взял, что назад вернули…
– Такая большая очередь была?
– Не то слово, «очередь»! Не очередь, а битва настоящая. Ладно, на вкус распробуем, а выводы потом делать будем.
– Это «Агдам».
Сосед от души порадовался:
– «Агдам»? Хорошее винцо, крепкое и запах натуральный. В конце пятидесятых бормотуху начали выпускать, «Солнцедар», много народу потравилось, но пили, куда деваться? Не слыхал?
Я отрицательно покрутил головой:
– Частушки матерные слышал, а вживую не видел. Не довелось.
Хозяин разлил напиток по кружкам:
– Ну и ладно… Давай за нас, первый раз ведь, по-людски сидим.
Выпили. Юрий Иваныч, отломил кусочек горбушки и аппетитно занюхал алкоголь:
– Ты на меня не смотри, ешь. Я-то, сам, мало ем, а ты, давай, наворачивай, не обижай хозяина.
Минуты три в комнате царила тишина, прерываемая позвякиванием посуды. Наконец, очевидно стараясь наверстать потраченное время, сосед, озорно взглянув в мою сторону, продолжил монолог:
– Тут такое дело со мной вчерась приключилось. Приходит ко мне девчушка, молоденькая такая, и говорит, мол, вас, Юрий Иванович, председатель горисполкома на сегодня к себе приглашает. Я в ответ: «Кто такой? И зачем я ему сдался?». Девчушка, мол, он у нас новый руководитель, Александром Андреевичем кличут. А приглашает для сюрприза. Любопытно мне стало, чего это я начальству понадобился? Как в начале семидесятых вышел на пенсию, я-то, в десятом году родился, так ни одна собака меня не звала, а, тут вдруг потребовался. Ну, ладно. Машка по-быстрому мне штаны подшила, погладила, новую рубаху из сундука достала, нафталином провонявшую, даже галстук нашла. Оделся я как Муслим Магомаев, и пошёл к властям. А что сделаешь? Оно, конечно, времена новые, перестройка какая-то идёт, а вдруг, всё как при Сталине обернётся? Шутки плохи, с властью-то. Давай выпьем, потом доскажу, со смеха помрёшь, обещаю.
Мы выпили. Юрий Иваныч, снова отломил кусочек хлеба и, подцепив ложкой кильку, положил её на крошечный ломтик:
– Килька, она – первое дело: и под водку, и под винище, подходит. Ты попробуй, не побрезгуй, дело говорю. – Прожевав бутерброд и, вытерев губы подолом рубашки, продолжил. – Ну, так вот, собралось нас в зале человек двадцать. Может и поболе. Кто-то из знакомых, а кого раньше и в глаза не видел. Ну, думаю, всё старичьё собрали, а для чего, понять не могу. Выходит, значит, к нам начальство, молодой такой, не знаю, сколько годков, но, молодой. Важный из себя, но приветлив. Врать не буду, приветлив, это точно. Мы все растерялись, в первый раз ведь, и, видать с испугу-то, построились. Ну, прям как в армии. Председатель улыбнулся и говорит: «Чувствуется старая закалка!» Мол, молодцы, мы… Поручкался с каждым, вроде как с уважением, и говорит, мол, Михал Сергеевич велел каждому из фронтовиков по ордену выдать, всем без исключения. А орден-то, важный, «Отечественной войны», не шутка! Им Сталин в войну всё больше офицеров и генералов награждал, а тут такое дело. Но, говорит, и это ещё не всё, партия, мол, поручила передать вам, ветеранам, брошюру генсеком лично написанную, и продовольственные наборы, дефицитные. Ясное дело, все обрадовались, кто-то награде незаслуженной, но большинство – пайку. А, что? Там: и сервелат, и тушёнка, и сыр, и прочего добра немало. Попробуй купи в магазине. Роздали нам пакеты и брошюры, значит, и дело к наградам подошло. Вручает начальник ордена, каждому доброе слово говорит, мол, живите долго, так до меня и добрался…
Юрий Иваныч вдруг смолк, растеряно разглядывая комнату. Пауза затянулась, и я решил помочь рассказчику:
– А дальше?
Сосед будто очнулся. Виновато взглянув мне лицо, с горячностью продолжил:
– Может и не прав я, только понятие имею в полном объёме… Этот орден Сталин давал тем, кто в боях шибко отличился. А тут? Вот, Петрович, мы с ним на заводе работали, я наладчиком, а он, по грамотности своей, в бухгалтерии писарем. Он и в войну писарил, да только не на фронте, а в тылу, в военкомате. Видать, там и оформил своё «ветеранство». И ему за это орден? Вот и получается, что не по заслугам… Ну, да ладно. Подходит, значит, начальник ко мне, коробочку протягивает и говорит, вручаю тебе, Юрий Иваныч, боевую награду. А я ему в ответ: «А ты, кто? Сталин? Или на другой случай, Калинин? Есть у меня награда за войну, медалька «За отвагу», кровью моей добытая. А это мне вовсе и не нужно» Тот растерялся, огляделся на помощников своих и спрашивает, мол, а чего тебе нужно-то? Я ему прямо и сказал: «А давай-ка мне, уважаемый, двадцать пять рублей, да одной бумажкой. С меня и хватит!» Все засмеялись, а он, видать, чтобы лица не лишиться, достаёт из бумажника четвертной, мне вручает и говорит: «А орден всёшь-таки возьмите, нехорошо получается, заслужили ведь. Сам Горбачёв распорядился!» Я деньги-то взял, а чего не взять? А орден брать не стал, так и сказал, мол, Горбачёв, не Сталин. Да и откуда ты знаешь, что я награду эту заслужил? Мне чужого не надо. На том и разошлись… Налью-ка я ещё по стаканчику, шибко хорош портвейн, не чета «топорикам».
Юность помора
Юрий Иваныч слегка захмелел от выпитого вина. Щёки его покраснели, глаза обрели живой и весёлый блеск. Даже борода, казалось, стала отсвечивать розоватым цветом. Впрочем, алкоголь не повлиял на связанность мыслей и речи хозяина. Поставив пустой стакан на стол, он по привычке занюхал выпивку ломтиком хлеба и неторопливо продолжил свой рассказ:
– Вообще-то я из поморов буду, из-под Архангельска. Сельцо там было, Порогом называлось, сейчас и не знаю, есть ли, нет ли. Это тюрьма и война меня правильной речи выучили. Раньше я и окал, и цокал, шепелявил и в-закал. А что? На северах, наверное, по сю пору так бают. Разговаривают, по-вашему. Я тебе говорил, что с десятого года? – не став дожидаться ответа, сосед снова наполнил стаканы портвейном и предложил, – давай-ка, паря выпьем. Потом и порасскажу. Если интерес имеешь…
Я хотел было уточнить по поводу тюрьмы, не оговорился ли, часом Иваныч? Но тот, лихо опрокинув стакан терпкого напитка в рот, энергично замахал руками. Потом, мол, не мешай. Наконец, он продолжил:
– Ну, так вот… Жили мы, скрывать не буду, в достатке. И хотя землица ничего кроме картошки и ржи не родила, но рыбка во все времена поморов выручала. Недаром у нас говаривали: «Морем живём – морем кормимся». Семья у нас и по тем меркам большая была. А как иначе? Не выжить по-другому. Старшие братья, которые женатые, со своими семьями нераздельно жили, в отцовом доме. Сообща на промысел ходили, сообща карбас и снасти ладили для мурманского промысла. Я к работе с детства приучен был, как шесть лет исполнилось, так отцу и стал помогать. Закон такой в наших краях. Всё вместе делали, вот только батюшка меня на Мурман не брал. Старшие с ним ходили. – Юрий Иваныч замолчал, немного подумал и достал папиросу из мятой пачки. – Вот, курю. В деревне мало кто куревом баловался. Да и я не дитём начал. Ладно, бросать уже поздновато. Я крепким пацаном уродился. К десяти годам ростом уже старших братьев почти догнал. Вот батюшка меня к кузнецу и определил. Посоветовался с мамушкой и говорит: мол, нечего тебе в Мурмане делать, я там со старшими управлюсь. А кузнецкое дело завсегда пригодится. Перечить нельзя. Отец слово своё сказал, значит надо исполнять. Работал я поначалу в подмастерьях, а через пару годков молотобойцем стал. Так и жили мы в своём укладе, покуда власть не решила колхоз из артели устроить.
Я решился прервать монолог соседа:
– Чего ж тут плохого? Вместе ведь лучше.
Юрий Иваныч с сомнением посмотрел мне в лицо:
– Это верно. Только я до сих пор понять не могу, чем власти артель помешала? – немного помолчав, вздохнул и продолжил, – наверное, потому не понимаю, что грамоте по-настоящему не обучен. Писать-читать ещё мать научила, а дале, только тюрьма и война в учителях значились. Ну и вот, посмотрел батя на безобразия, что в деревне творятся и говорит: «Езжай-ка сынок, в Архангельск. На завод устроишься, поработаешь, обживёшься, а там видно будет». Уезжать мне не хотелось, девятнадцатый годок мне шёл, уже и невесту присмотрел, но против воли отца идти не решился. Вот так я и стал городским. Да не на пользу мне эта жизнь городская пошла. Приняли меня на лесозавод № 3, сначала разнорабочим, затем, после обучения, к станку определили. Жил я в общежитии, вроде всё нормально. Помаленьку и деревню забывать стал. Отец, правда, писал, что с колхозом ничего не получилось и домой звал, но я уже сам не захотел возвращаться. Пообвык в городе-то. И всё бы ничего, да к вину я пристрастился. Дома-то, пьянство не в чести было. Да и не было у нас в деревне пьяниц. А здесь, что делать после смены? Вот всяк по-разному и развлекался. Кто в клуб бегал, а я в пивную. Так помаленьку и прихватил меня змий зелёный. Пришёл я как-то с похмелья в цех. Ну, мастер и давай на меня орать обидными словами. Мне, дураку, промолчать бы, да он по «матушке» нехорошо прошёлся. Сцепились с ним не шутейно, мастер, лом хватает и на меня замахивается. При чём на полном серьёзе. У меня в руках топор был, для дела. Вот я с испугу-то и врезал ему обухом промеж глаз. Так я свой срок и схлопотал. За убийство.
Я смотрел на рассказчика и не верил его словам. Конечно, я мало знал соседа, но и представить себе не мог, что он убил человека. Юрий Иваныч тяжело вздохнул и, наполнив стаканы, сказал:
– Давай-ка, паря, помянем невинноубиенного. Правильным он человеком был. Жаль, что так вышло.
Батюшка
Помянув безымянного мастера полным стаканом вина, Юрий Иваныч продолжил свой рассказ:
– Дали мне полную десятку. Прокурор настоял, дескать, не активист и не комсомолец. На пересылке умные люди говорили, что перебор вышел со сроком-то. Мол, надо тебе, парень жалобу подавать, глядишь, года два и скинут. Но мне тогда не до жалоб было, всё перед глазами покойник мерещился. И днём, и ночью. Всё спрашивал: «Зачем ты убил меня?». Чуть было умом не тронулся. И тронулся бы, да только с нами в одной камере священник православный сидел. Уж не знаю, за что осужден был, скорее всего за контрреволюцию, но человек он был настоящий, никому в добром слове не отказывал. Его все уважали, даже тюремное начальство к нему за советом хаживало. Как-то присел рядышком и говорит: «Не спрашиваю, за что тебя осудили. Но ты и не рассказывай. Не надо. Только вижу, что ты не сиденьем тюремным маешься, а грех свой великий осознал. Потому и места себе не находишь». Я-то за четыре года в городе совсем про Бога позабыл. Ни разу в церковь не заходил, всё времени не было. На зелье было, а на церковь нет. Видать, потому Господь меня и покарал. От обиды великой наговорил я батюшке всяких слов, да только он, выслушав, так ответил: «Господь никого, мил-человек, не наказывает, он людям право выбора даёт. Ты оступился, неверный путь избрал. Но теперь всё от тебя зависит. Смирись и прими свой срок, как Господь свой крест принял и дальше живи. Только живи по правде и с именем Божиим в сердце». Я оглянулся по сторонам. В камере-то урки конченые… Думал засмеют сейчас. А старшой и говорит: «Ты, паря, слушай слова правильные. Это мы свои грехи за оставшуюся жизнь не замолим. А ты – первоходок. Статья хотя и шибко серьёзная, но не для твоего авторитету. Другой ты человек. С тем и живи». На том и порешили. Урки с первых дней ко мне равнодушно относились, а после того, как старшой слово своё сказал, вообще замечать перестали. А мне и не в обиду. Покуда под следствием был, много страстей про тюрьму наслушался, мол разборки там, то, да сё. А в нашей хате порядок был. То ли батюшку стеснялись, то ли смотрящий уже всех заставил по слову своему, воровскому жить. По понятиям, значит. Я хоть и весь срок от звонка до звонка оттрубил, но уркой так и не стал. И феню ихнюю не выучил. Ни к чему мне это было. Священник в их дела не вмешивался, а они к нему со всем уважением. Помню на прогулке подошли к батюшке политические и давай над ним измываться, дескать, не помог тебе твой Бог от кары земной отвертеться, а значит и нет его, Бога твоего. Зеки в миг с ними разобрались. За малым делом чутка не порешили самого горластого. И порешили бы, да только священник не позволил. Нечего, говорит, грех на душу брать. Убогие они разумом и дьяволом меченые. Нечистые душой.
Я решил прервать своё молчание:
– А много политических там было?
Казалось, сосед и думать забыл о моём существовании. Услышав вопрос, он с недоумением взглянул в мою сторону, и с явной неохотой вернувшись в действительность, ответил:
– Немало. Но меньше, чем уголовников. Урки их не чествовали. Жировали политические в тюрьме-то. Рассказывали, что и прогулки у них почаще, и пайки послаще, и посылки в количестве неограниченном. Книжки их антисоветские чемоданами приносили, а нашему батюшке молитвенник не разрешили. Но он и по памяти все молитвы знал. Учёный человек! А политические… По правде, среди них мало было людей наших кровей. Это ещё полбеды. Их больше за чванство и заносчивость не уважали. Я думаю, что батюшку по ихиму требованию к ворам определили. Я потом на пересылке с ними столкнулся. Да слава Богу накоротке. – Иваныч, уже вполне освоившись в настоящем, спохватился. – Чего это мы на сухую сидим? Давай-ка по капельке. Честно говоря, дрянное пойло. Под такой разговор водка, самый походящий напиток.
Взбодрившись портвейном, Юрий Иваныч поднялся из-за стола и выглянул в окно:
– И где это Машку черти носят? Денег ей всё мало… Ладно, у нас с тобой есть чем заняться, – вернувшись на место, он как бы спохватившись, немного виноватым голосом спросил, – заболтал я тебя? Ты уж прости меня, старика. Знакомые нынче всё о перестройке судачат, о светлом будущем разговоры разговаривают. Когда мне ещё доведётся о жизни моей поболтать?
Наверное, выпитое помогло мне расслабиться и поэтому рассказ соседа ничуть меня не утомил. Я закурил сигарету и ответил:
– Вы продолжайте, Юрий Иванович. Мне и в самом деле интересно.
Тот искренне обрадовался:
– Вижу, что не врёшь. Ну и ладушки. – Видимо настраиваясь на «возвращение» в далёкое прошлое, он задумался, потом тряхнул головой и продолжил. – Ну, так вот. Не помню, сколько сроку пришлось мне в тюрьме пробыть, да только всему своё время приходит. Как-то под утро, дверь распахнулась, и в камеру зашли военные, человека четыре. Подняли они батюшку со шконки, руки какого-то рожна, за спину заломили и увели невесть куда. Больше мы его и не видали. А меня дня через два, этапом на Соловки отправили.
Беломорканал. Обманутые надежды
Юрий Иваныч подогрел картошку и поставил сковородку передо мной:
– Ты давай налегай. Вон какой худющий. Надо Мане сказать, чтобы салом тебя кормила. Сало для мужика даже лучше, чем килька для алкаша. – Улыбнувшись своей шутке, сосед затянулся папиросным дымом и продолжил. – Ну на островах я только на сутки и задержался. Что-то там напутало начальство и наш этап вместо Кеми, на Соловки и отправили. Ну и слава Богу, хоть в бане помылись. Там мои урки с политическими и схлестнулись. Вроде из-за пустого слова, да только для правильного вора пустых слов не бывает. Мы на корточках под стеной сидели, судьбы своей ожидаючи, а этих то ли на прогулку вели, то ли ещё по какой надобности. Один из них – ни дать ни взять, что твой Свердлов на лицо, сплюнул в нашу сторону и говорит, мол, отбросы вы паскудные. Ну или как-то так. Что тут началось: зеки не стерпели, вытащили пархатого из колонны и давай лупцевать от души. Охрана, правда, сразу очухалась. В воздух палить зачала. Только так и разняли. Зачинщиков сразу скрутили и увели.
Я не смог удержаться от вопроса:
– И «пархатого»?
Юрий Иваныч удивлённо взглянул на меня:
– Если, по совести, его надо было первым и заарестовать. А по делу получилось, что забрали тех, на кого он сам и указал. Такие вот дела.
– Но ведь это неправильно! Что, даже разбираться не стали?
И без того влажный взгляд соседа погрустнел ещё больше. Покатав хлебный мякиш по столу, он, помолчав пару секунд, ответил:
– Да кому это надо было? Разбираться… Это потом, ближе к сороковым, политические мазу потеряли. А тогда тюремное начальство с ними связываться опасалось. Шибко грамотный народ был, любую жалобу на самый верх написать могли. И кто знает, какие у них связи на воле остались… Зеки, что? С ними попроще. Это они когда на хатах или на воле, лихие. А на этапе правды не сыскать. Да и закон у них, когда надо срабатывал: «Каждый сам за себя». Короче, никто из воров в защиту братвы и слова не замолвил. Вечером нас переправили на кемскую пересылку. Там я тоже долго не задержался, прямиком на Беломорканал и отправился…
Я счёл нужным поддержать разговор вопросом:
– В каком году это всё было, Юрий Иванович?
Тот надолго задумался. Было видно, что ему трудно ориентироваться во времени. На его лице, как на экране, отражались попытки хронологически связать события прошлых лет. Наконец, он вздохнул и подвёл итог тяжким раздумьям:
– Так-то я точно не упомню. Канал вроде в 33-м или в 34-м докопали… Но я под самый конец туда попал. В лагере всё чудно было. Начальство шибко торопило, ему не терпелось в сроки поспеть. А они, сроки-то, видать жёсткими были. Работали одни уголовники, вроде меня. Только больше те, кто по хозяйственной части провинился. По крайней мере в моём отряде. Даже инженеры и те со сроками. Только и отряды там назывались по-армейски: роты, взвода. Говорю же, чудно… Утром побудка, оправка, завтрак – и вперёд, на стройку. И не просто так, а под оркестр. Цирк, да и только. Всё блажили, мол, перековка зеков на трудовой люд. Кормили неплохо, это я потом понял, когда жизнь меня по другим тюрягам, да каторгам потаскала. Но и народу мёрло немеряно, особенно тех, кто с детства к труду не приучен. Доходяги, одним словом. Оно и понятно, техники никакой, только лопаты, кирки и тачки. Вот и весь тебе механизм. Умерших не считали, кому это надо было? Только отряды, роты, то есть, в один день до нужного расчёту пополнялись. Бывало, к вечеру схоронят пяток, а утром, глядишь, уже новых к строю привозят. Такие вот дела…