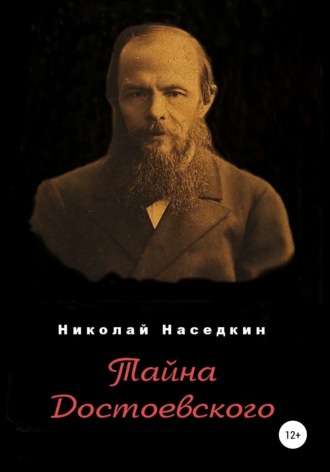
Николай Николаевич Наседкин
Тайна Достоевского
«Она (Варвара Петровна Ставрогина. – Н. Н.) позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. … Никогда ещё она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяными …. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. … Явились и две-три прежние литературные знаменитости …, но к удивлению её эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали…»
Галерею отдельных портретов открывает фигура плодовитого господина Ратазяева из первого произведения писателя. Ратазяев, в общем-то, не участвует в действии романа, а предстаёт в обрисовке наивного Макара Алексеевича Девушкина, и оттого пародийные краски особенно ярко блистают в этом портрете. «Ратазяев-то смекает, – дока; сам пишет, ух как пишет! Перо такое бойкое и слогу пропасть …. Объядение, а не литература!..»
Тем и драгоценны простодушные свидетельства Девушкина, что между этими от сердца идущими дифирамбами проскальзывают сведения, рисующие подноготную Ратазяева. Он, доведя Макара Алексеевича до восторга, в полной мере эксплуатирует его в качестве переписчика. Совершенно проясняется уже в этом первом панегирике материальный интерес, на котором зиждется «творчество» Ратазяева. Более того, как только была затронута тема денег, так и проскочило у Макара Алексеевича драгоценное словцо о Ратазяеве: «Увёртливый, право, такой!..» Ну и, наконец, действительно феноменальная фантазия, а попросту говоря – талант к вранью, раскрывается здесь же. Ведь стоит только представить себе, как он стоял перед Девушкиным и, не моргнув глазом, заявлял, что за тетрадку стишков «пять тысяч дают ему, да он не берёт…»
Чтобы составить мнение о творческом лице Ратазяева и об его «таланте» вспомним лишь небольшой отрывочек из его «Итальянских страстей»: «Владимир вздрогнул, и страсти бешено заклокотали в нём, и кровь вскипела…
– Графиня, – вскричал он, – графиня! Знаете ли вы, как ужасна эта страсть, как беспредельно это безумие? Нет, мои мечты меня не обманывали! Я люблю, люблю восторженно, бешено, безумно! Вся кровь твоего мужа не зальёт бешеного, клокочущего восторга души моей! Ничтожные препятствия не остановят взрывающегося, адского огня, бороздящего мою истомлённую грудь. О Зинаида, Зинаида!..
– Владимир!.. – прошептала графиня вне себя, склоняясь к нему на плечо…
– Зинаида! – вскричал восторженный Смельский. Из груди его испарился вздох. Пожар вспыхнул ярким пламенем на алтаре любви и взбороздил грудь несчастных страдальцев.
– Владимир!.. – шептала в упоении графиня. Грудь её вздымалась, щёки её багровели, очи горели…
Новый ужасный брак был совершён!..»
Восторг Макара Алексеевича на этом не остыл. Далее в совершенном восхищении он выписывает ещё и порядочный кусок из исторического опуса Ратазяева «Ермак и Зюлейка», и отрывок из «смехотворного» произведения «Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза?» В продукции Ратазяева проявляется характернейшая черта подобных строчкогонов – всеядность, отсутствие собственной темы и индивидуального почерка, подражательность и т. п. Здесь спародированы авторы псевдоисторических романов наподобие Булгарина, представители романтизма первой половины XIX века и других творческих направлений, чуждых Достоевскому. Притом, Ратазяев совсем воспарил над землёй и пишет Бог знает о чём, только не о текущей действительности, и эту черту Достоевский постоянно подчёркивает у подобных сочинителей.
Следующий и один из самых величественных в своей мизерности тип – Фома Фомич Опискин. Первый же штрих даёт представление об его писательском облике: «Говорили ещё, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудрёного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось…»
В обрисовке Фомы уже почти нет места иронии, её место занял сарказм и потому, естественно, у читателя не может быть двойственного отношения к Фоме. Если Ратазяев в чём-то безобиден и только смешон, то Опискин страшен и отвратителен, как паук, в своих притязаниях на значительность и в мстительности за ущемлённое самолюбие непризнанного гения.
«Он был когда-то литераторам и был огорчён и не признан; а литература способна загубить и не одного Фому Фомича – разумеется, непризнанная. … Я впоследствии справлялся и наверно знаю, что Фома действительно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками … Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. … С того же времени, я думаю, и развилась в нём эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений…»
Мы только вспомнили литературную физиономию Фомы, которая давно и всесторонне разобрана и исследована в литературоведении, в первую очередь – Ю. Н. Тыняновым в работе «Достоевский и Гоголь (К теории пародии)». Отметим только ещё, что сразу после опубликования «Села Степанчикова» поднялся в критике спор – является ли объектом пародии в этой повести сам Гоголь или только отдельные моменты его творчества. Уже упоминалось о неискренности, в которой упрекал Достоевский Гоголя. Не исключено, что ему не нравились и другие черты характера Гоголя как человека и писателя, несмотря на всё своё уважение к «отцу натуральной школы». Ведь могла же в записных тетрадях Достоевского появиться запись: «Гоголь – гений исполинский, но ведь он и туп, как гений», – говорящая очень о многом.
Но, конечно же, между Фомой и Гоголем – громаднейшая пропасть. В первую очередь, Опискин – обобщённый и колоритный портрет тех непризнанных гениев, имя которым – легион.
Один из подобных же графоманов – Андрей Антонович фон Лембке, губернатор тех мест, где разворачиваются события «Бесов». Ещё в школе, в самый последний год «он стал пописывать русские стишки». Потом «Лембка», устремив основные усилия на восхождение по служебной лестнице, не бросил, однако ж, тайных занятий сочинительством и уже будучи сановитым чиновником «втихомолку от начальства послал было повесть в редакцию одного журнала, но её не напечатали». Не отчаявшись, упорный фон Лембке засел за толстый роман, о содержании которого можно составить полное представление по критическому отзыву Петра Верховенского. Стоит, наверное, напомнить, что критика высказывается прямо в глаза далеко не блещущему умом автору, и притом Петру Степановичу именно в этот момент надо во что бы то ни стало задобрить губернатора:
«– Две ночи сряду не спал по вашей милости. … И сколько юмору у вас напихано, хохотал. … Ну, там в девятой, десятой, это всё про любовь, не моё дело; эффектно, однако … Ну, а за конец просто избил бы вас. Ведь вы что проводите? Ведь это же прежнее обоготворение семейного счастья, приумножения детей, капиталов, стали жить-поживать да добра наживать, помилуйте! Читателя очаруете, потому что даже я оторваться не мог, да ведь тем сквернее. Читатель глуп по-прежнему, следовало бы его умным людям расталкивать, а вы…»
В сущности, под насмешкой Петра Верховенского скрывается серьёзная мысль Достоевского. Как и в жизни этот фон Лембке далёк от действительности, совершенно не понимает происходящих событий, так и в своих беллетристических опусах он сочиняет жизнь, по-видимому, по шаблонам давно ушедших романтизма и сентиментализма.
Романтиком в своё время был и Степан Трофимович Верховенский. Хроникёр на первых же страницах выдаёт его с головой – оказывается, тот в молодости сочинил поэму, да ещё и с «направлением». Из пародийного пересказа поэмы Хроникёром становится ясно, что здесь Достоевский высмеял целое направление в романтизме(произведения Печерина, Грановского, Растопчиной, Тихомирова…).
Степан Трофимович искренне считает себя революционным поэтом – ещё бы, ведь поэму нашли «тогда опасною», хотя она, по остроумному замечанию Хроникёра, всего лишь ходила «по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента». Антон Лаврентьевич (Хроникёр) предложил её теперь напечатать «за совершенною её, в наше время, невинностью», но Степана Трофимовича даже оскорбило подобное мнение об его детище.
Тенденциозности, наполнявшей «Бесы», не отрицал сам Достоевский. Вот и в образе тщеславного Степана Трофимовича он карикатурно изобразил тех либералов (не только поэтов), которые, в его понимании, сделали для лучшего будущего России на грош, а ожидают награды на рубль (для таких людей, как старший Верховенский, и гонения от правительства – своеобразная награда, признание их значимости); тех поэтов, которые считали, что главное в их творчестве «направление», и это, дескать, важнее литературных достоинств. Для полноты характеристики Верховенского-старшего и понимания иронического отношения к нему со стороны Достоевского нельзя забывать, что Степан Трофимович – «западник» 40-х годов, представитель идейных противников писателя-«почвенника».
Ещё более зло и едко высмеял Достоевский подобный тип деятелей в образе другого героя романа – Кармазинова. Взяв за основу личность Тургенева (подчеркнём – как видел и представлял его сам Достоевский) и чрезвычайно шаржировав её, автор «Бесов» нарисовал портрет беспринципного, тщеславного и устаревшего в творческом плане литератора. Кстати, первый памфлетный намёк на Тургенева можно усмотреть ещё в повести «Дядюшкин сон», в образе старого князя, который всё порывается «записать одну новую мысль», сам давно и безнадёжно отстав от жизни.
Ничего не понимает в происходящих вокруг катастрофических событиях и Кармазинов, хотя считает себя передовым деятелем и художником. «Великим писателем» его величает, к примеру, Липутин, а Варвара Петровна Ставрогина в минуту раздражённого состояния духа, напротив, именует «надутой тварью». Но обратимся лучше к сравнительно спокойным и объективным суждениям Хроникёра. Причём, начав о Кармазинове, Антон Лаврентьевич высказывает далее убийственную оценку вообще представителям подобного разряда писателей:
«Кармазинова я читал с детства. Его повести и рассказы известны всему прошлому и даже нынешнему поколению; я же упивался ими, они были наслаждением моего отрочества и моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу, повести с направлением, которые он всё писал в последнее время, мне уже не так понравились, как первые … Вообще говоря, если осмелюсь выразить и моё мнение в таком щекотливом деле, все эти наши господа таланты средней руки, принимаемые, по обыкновению, при жизни их чуть ли не за гениев, – не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их, чуть лишь подрастёт новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, – забываются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро. … О, тут совсем не то, что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями, приходившими сказать своё новое слово! Правда и то, что и сами эти господа таланты средней руки, на склоне почтенных лет своих, обыкновенно самым жалким образом у нас исписываются, совсем даже и не замечая того…»
И ещё одна характернейшая деталь появится в своём месте: «Великий писатель болезненно трепетал перед новейшею революционною молодёжью…»
Интересно отметить в связи с этим сближение Достоевским в литературном плане Кармазинова и фон Лембке. И исписавшийся писатель и несостоявшийся – оба ищут читательского признания у передовой, по их мнению, молодёжи в лице Петра Верховенского. И что же? Над обоими почтенными (по возрасту) литераторами этот «бес» проделывает одну и ту же шутку: якобы теряет их драгоценные рукописи. Потом, насладившись их одинаково болезненным испугом, Петруша одному (губернатору) в глаза высмеивает его стряпню, другому отвечает пренебрежительным замалчиванием, что ещё несравненно обиднее.
Достаточно известны шедевры Кармазинова в пародийном переложении Хроникёра и поэтому вспомним только, что здесь опять высмеиваются такие качества «великого писателя», как: непонимание жизни, позёрство, неискренность, напыщенность, преувеличенное тщеславие, самомнение и самолюбие. Существенно и то, что Кармазинов не любит Россию, равнодушен к народу: «На мой век Европы хватит…», – вот его платформа, абсолютно неприемлемая Достоевским.
И ещё одно обвинение предъявлено Кармазинову, которое, наверное, никто, кроме как Достоевский, не мог высказать: «Объявляю заранее: я преклоняюсь перед величием гения; но к чему же эти господа наши гении в конце своих славных лет поступают иногда совершенно как маленькие мальчики? Ну что же в том, что он Кармазинов и вышел с осанкою пятерых камергеров? Разве можно продержать на одной статье такую публику, как наша, целый час? Вообще я сделал замечание, что будь разгений, но в публичном лёгком литературном чтении нельзя занимать собою публику более двадцати минут безнаказанно…» Самому Достоевскому, как известно, на чтениях не только удавалось «безнаказанно занимать собою публику», но и силою своей истинной гениальности писателя и проповедника завораживать публику хоть на час, хоть на три…
Следующий на очереди экспонат этой своеобразной кунсткамеры относится к клану поэтов и тоже «живёт» в «Бесах». Этот роман, как видим, действительно чрезвычайно плотно населён прозаиками и поэтами, прямо – Дом творчества в Переделкино. Речь идёт о капитане Лебядкине, доморощенном пиите. Его творчество на страницах романа представлено необычайно широко, больше ни один герой-поэт Достоевского не удостоился подобной чести. Главной чертой Лебядкина является та, что поэзы свои он конденсирует из паров алкоголя, а так как пьян он бывает по 24 часа в сутки, то и неудивительна такая его чрезмерная плодовитость. Он буквально сыплет стихами. Не имея возможности привести его творчество в полном объёме (а сколько ещё в черновых тетрадях Достоевского осталось!), вспомним лишь одну его «басню» с собственным лебядкинским комментарием:
«Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства…
Место занял таракан,
Мухи возроптали.
“Полон очень наш стакан”, –
К Юпитеру закричали.
Но пока у них шёл крик,
Подошёл Никифор,
Бла-го-роднейший старик…
Тут у меня ещё не закончено, но всё равно, словами! – трещал капитан. – Никифор берёт стакан и, несмотря на крик, выплёскивает в лохань всю комедию, и мух и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте, сударыня, таракан не ропщет! … Что же касается до Никифора, то он изображает природу, – прибавил он скороговоркой и самодовольно заходил по комнате…»
Вся несносность Лебядкина-поэта состоит в том, что он не просто занимается рифмованным словоблудием, но и жаждет быть услышанным, терроризирует публику своим «талантом» вплоть до скандалов, как произошло это на литературном вечере в пользу гувернанток. Достоевский образом этого стихотворца словно предсказал целое нашествие подобных лебядкиных на русскую литературу в начале XX века, когда скандальность сделалась вывеской различных авангардистов от поэзии. Достоевский благодаря дару провидца сумел увидеть и показать этот, тогда ещё только нарождающийся тип поэта.
Живут в мире Достоевского ещё несколько профессиональных и доморощенных поэтов, которых объединяет как раз то, что они не имеют права причисляться к поэтам. В «Идиоте», например, мимоходом упомянут один поэтик, на котором и не стоило бы останавливать внимания, так как он не играет никакой роли в развитии действия, но, представляя его, Достоевский в скобках приводит попутное суждение, рисующее ещё с одной стороны тип литераторов, особенно нетерпимых им: «Тут (У Епанчиных. – Н. Н.) был, наконец, даже один литератор-поэт, из немцев, но русский поэт, и, сверх того, совершенно приличный, так что его можно было без опасения ввести в хорошее общество. Он был счастливой наружности, хотя почему-то несколько отвратительной …. Когда-то он перевёл с немецкого какое-то важное сочинение какого-то важного немецкого поэта, в стихах умел посвятить свой перевод, умел похвастаться дружбой с одним знаменитым, но умершим русским поэтом (есть целый слой писателей, чрезвычайно любящих приписываться печатно в дружбу к великим, но умершим писателям)…»
Позже, в «Дневнике писателя», Достоевский будет ещё писать об этом, чрезвычайно распространённом и в наши дни обычае в литературном мире.
Весьма колоритен образ доморощенного поэта из «Села Степанчикова» – лакея Видоплясова. Его поэтический дар характеризует в повести восторженный полковник Ростанев. По его словам, у Видоплясова «настоящие стихи», что он «тотчас же всякий предмет стихами опишет», что это «настоящий талант», что у него в стихах «музы летают» и что, наконец, «он до того перед всей дворней после стихов нос задрал, что уж и говорить с ними не хочет». Он под покровительством Фомы Опискина на полном серьёзе намеревается издать книжку под названием… «Вопли Видоплясова», но самолюбивый автор опасается насмешек над фамилией и требует почтительно, чтобы «сообразно таланту, и фамилия была облагороженная». Но «поэту» не везёт: за короткий срок он становится поочерёдно Олеандровым, Тюльпановым, Верным, Улановым, Танцевым и даже Эссбукетовым, но презираемая им дворня упорно подбирает к очередной «облагороженной» фамилии отнюдь не благородные рифмы…
Невольно подумаешь, что можно носить довольно заурядную фамилию Пушкин и быть гением, а можно быть Эссбукетовым, «рифмовать любой предмет», но оставаться лакеем и в жизни, и в литературе. Такие поэты, высмеянные Достоевским, беспокоятся о чём угодно, только не о том – есть ли у них талант? Только тем, что колоссальный образ Фомы Опискина затенил Видоплясова, и можно, кажется, объяснить тот парадокс, что имя этого лакея-поэта не стало нарицательным.
В карикатурном виде выставил Достоевский в «Скверном анекдоте» отдельных так называемых поэтов-обличителей той поры. Подразумевая под «Головешкой» сатирический журнал Н. А. Степанова и В. С. Курочкина «Искра», писатель выводит в сцене свадьбы у Пселдонимова сотрудника этого издания, который заносчиво смотрит и независимо фыркает, а потом, напившись, грозит всех в «Головешке» завтра же окарикатурить.
Достоевский, несомненно, сгустил краски, изображая этого сотрудника «Головешки» и будет ошибкой думать, что он имеет в виду, например, Курочкина. Нет, Достоевский нарисовал карикатуру на примазывающихся к «направлению» деятелей, которые, ничего для «направления» не сделав, только опошляли его. Нельзя забывать, что Достоевский, полемизируя с противниками из другого идейного лагеря, никогда не отказывал им в уважении, если чувствовал их искренность и убеждённость. Он жестоко высмеивал именно беспринципных «пришлёпников», пользующихся «направлением» как вывеской и саморекламой.
В несколько шаржированной фигуре генерала Иволгина («Идиот») Достоевский показал представителя многочисленного отряда мемуаристов – авторов «Воспоминаний» и «Записок», в которых без труда можно заметить подмену исторической правды вымыслом одарённого фантазией автора. Верьте, не верьте, а я видел это собственными глазами, поэтому пишу – вот фундамент подобных сочинителей.
Наивный князь Мышкин, выслушав весь длинный и «чувствительный» рассказ Иволгина об его якобы встрече с Наполеоном, искренне восклицает, что это стоит увековечивания на бумаге. В ответе генерала, в двух фразах, Достоевский раскрывает всю его сущность: «– Мои записки, – произнёс он с удвоенной гордостью, – написать мои записки? Не соблазнило меня это, князь! Если хотите, мои записки уже написаны, но… лежат у меня в пюпитре. Пусть, когда засыплют мне глаза землёй, пусть тогда появятся и, без сомнения, переведутся и на другие языки, не по литературному их достоинству, нет, но по важности громаднейших фактов, которых я был очевидным свидетелем, хотя и ребёнком…»
Уверенность в том, что литературный талант дело десятое, а главное факты, и ожидание «монументов» хотя бы после смерти – таковы иволгины.
Писателей всегда было и есть, может быть, больше, чем их требуется в жизни, и в прошлом веке имя им было также – легион. В произведениях Достоевского часто мелькают третьестепенные персонажи, занимающиеся литературой, или сообщается о том-то и том-то, что он пробавляется сочинительством. Например, о Степане Михайловиче Багаутове («Вечный муж») сказано только, что он «решительную склонность к литературе имел, даже страстную повесть одну в журнал отослал». Здесь только по ироническому эпитету можно догадываться о художественных достоинствах этой «повести».
Некоторые люди убеждены, что нет ничего легче, чем быть писателем – взял бумагу, перо и, пожалуйста, сочиняй. Вот и Алёша Валковский в «Униженных и оскорблённых» наивно признаётся Ивану Петровичу: «…я хочу писать повести и продавать в журналы, так же как и вы. … Я рассчитывал на вас и вчера всю ночь обдумывал один роман, так, для пробы, и знаете ли: могла бы выйти премиленькая вещица. Сюжет я взял из одной комедии Скриба…» Заметили? Как и многие подобные герои Достоевского, будущий «писатель» не из текущей жизни намеревается черпать сюжеты, а сразу из литературы же. Правда, к чести Алёши, у него хватило ума спохватиться: «А впрочем, вы, кажется, и правы: я ведь ничего не знаю в действительной жизни … какой же я буду писатель?..» Золотые слова!
В ряду резко отрицательных героев Достоевского находится группа представителей прессы того времени. Сам активный публицист, редактор, критик, Достоевский хорошо видел все изъяны тогдашней бурно развивающейся журналистики. Большую роль в обрисовке этих образов играли и полемические цели, которых добивался Достоевский.
Вот, например, некий Безмыгин из «Униженных и оскорблённых». Он главный идеолог кружка Левеньки и Бореньки. Если согласиться с комментаторами 3-го тома, что в этом кружке проглядывает сходство (конечно, в карикатурном преломлении) с кружком «Современника» начала 1860-х годов, то в Безмыгине можно усмотреть намёк на Добролюбова. В захлёбывающемся пересказе Алёши Валковского речи и изречения Безмыгина, «гениальной головы», звучат пародией на статьи ведущего критика «Современника». «Не далее как вчера он сказал к разговору: дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак! Такие изречения у него поминутно. Он сыплет истинами…» И далее Алёша с восторгом рассказывает, что под влиянием Безмыгина они решили заняться «изучением самих себя порознь, а все вместе толковать друг другу друг друга…
– Что за галиматья!», – вскрикивает князь Валковский, выслушав, и этим восклицанием выражает мнение Достоевского о некоторых идеях в статьях Добролюбова.
Сродни «головешкинцу» из «Скверного анекдота» приходится герой-журналист из «Преступления и наказания». Его описала своим оригинальным языкам владелица публичного дома Луиза (Лавиза) Ивановна. Уже по известной поговорке, вернее, вопреки ей, место, где действует в романе этот персонаж, красноречиво красит его. Напившись в борделе (интересно отметить попутно, что почти все отрицательные герои-литераторы у Достоевского, самого, как известно, не выносящего вина, являются пьяницами), он мало того, что начал вытворять мерзости и непристойности вплоть до того, что «в окно, как маленькая свинья визжаль», но, как рассказала почтенная дама, опять же и грозить начал: «Я, говориль, на вас большой сатир гедрюкт будет, потому я во всех газет могу про вас всё сочиниль…»
Добавят к этому обобщённому портрету «накипи» журналистики прошлого века пару неприглядных деталей ещё два образа из поздних романов писателя. В «Идиоте» к свите Рогожина прибился на Невском проспекте «какой-то беспутный старичишка, в своё время бывший редакторам какой-то забулдыжной обличительной газетки и про которого шёл анекдот, что он заложил и пропил свои вставные на золоте зубы». Опять «обличительной» и опять «пропил»! А в «Подростке» рядом с Аркадием на рулетке «помещался всё время гниленький, франтик, я думаю, из жидков; он, впрочем, где-то участвует, что-то даже пишет и печатает».
Но наиболее выписанными фигурами в ряду журналистов являются – Келлер из «Идиота» и Ракитин из «Братьев Карамазовых». Уже первая наша встреча с Келлером достаточно рекомендует его: рогожинская компания подобрала его, как «беспутного старичишку», на улице, где он «останавливал прохожих и слогом Марлинского просил вспоможения». Нам становится также известно, что он боксёр, этим и интересен, и в публицистике действует боксёрскими методами – главное бить и бить.
И он бьёт. В своей «юмористической» статье «Пролетарии и отпрыски, эпизод из дневных и вседневных грабежей!», которая приводится в романе в подробном пересказе, он так «избивает» князя Мышкина «булыжниками лжи», что будь на месте князя другой человек, то и не выдержал бы – повесился. Опус этот получился таким, точно, по меткому определению генерала Иволгина, «пятьдесят лакеев вместе собрались сочинять и сочинили».
Ещё определённее характеризует самого Келлера и его произведение Ипполит Терентьев: «…написал неприлично, согласен, написал безграмотно и слогом, которым пишут такие же, как и он, отставные. Он глуп и, сверх того, промышленник…» И многое добавляет к собственному творческому портрету сам сочинитель, утверждая громогласно свои принципы: «Что же касается до некоторых неточностей, так сказать, гипербол, то согласитесь и в том, что прежде всего инициатива важна, прежде всего цель и намерение … и, наконец, тут слог, тут, так сказать, юмористическая задача, и, наконец, – все так пишут, согласитесь сами! Ха-ха!..»
В сущности, Келлера можно как-то понять и невольно оправдать: он глуп, он промышленник (т. е. ремесленник), и он искренне уверен, что все так пишут. Так сказать, типичное детище входящей тогда в силу продажной буржуазной журналистики. В жизни-то он даже и человек-то не совсем плохой, соблюдающий, хотя и ложно понятые, правила товарищества. Кстати же, он единственный из всего рогожинского сброда вступился за Ипполита после его неудачной попытки самоубийства и защищал его от насмешек.
Своеобразным Голиафом по сравнению с Келлером надо признать его «коллегу» Ракитина. Этот господин несравненно более колоссален как хищник. Во-первых, он имеет какой никакой умишко и даже определённого рода талантишко, что может позволить ему достигнуть соответствующих и немалых высот в журналистике, то есть сделаться «властителем дум» немалого количества читателей. Во-вторых, основные его усилия направлены не на хапание денег при помощи пера (хотя и это, как говорится, имеет место), а на делание карьеры, то есть, опять же, на достижение высот и власти. И, в-третьих, он сильнее Келлера убеждён, что цель оправдывает любые средства и более последовательно пользуется этим золотым правилом иезуитов.
Иван Фёдорович Карамазов сразу раскусил Ракитина, и тот, пересказывая Алёше эту характеристику, в общем-то, не оспаривает её: «…непременно уеду в Петербург и примкну к толстому журналу, непременно к отделению критики, буду писать лет десяток, и, в конце концов, переведу журнал на себя. Затем буду опять его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком …, но, держа ухо востро, то есть, в сущности, держа нашим и вашим и отводя глаза дуракам…» Да, Ракитин даже считает за лишнее скрывать, что он конъюнктурщик и продажная двуличная дрянь.
Правда, он слегка трусоват, боится мнения «общества» и потому, когда на суде вдруг принародно выяснилось, что он издал брошюрку «Житие в бозе почившего старца отца Зосимы» (кстати, не плагиат ли это записок Алексея Карамазова?!), да ещё и с благочестивым посвящением преосвященному (и это «передовой молодой человек»!), то Ракитин, несмотря на всё своё нахальство, был «опешен» и начал оправдываться «почти со стыдом». Здесь это словечко «почти» очень о многом говорит.
О стиле и творческом методе Ракитина даёт представление характерная фраза, которую не понимают ни Алёша, ни Дмитрий, и которая последнего потрясла как раз «глубокомысленной бессмысленностью»: «Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своею действительностью…» Что интересно, Ракитин оговаривается-оправдывается точь-в-точь по-келлеровски: «Все … так теперь пишут, потому что такая уж среда…»
Но и это ещё не всё. Ракитин настолько «велик», что кроме Келлера вобрал в себя ещё и капитана Лебядкина со всеми его поэтическими потрохами. Дмитрий рассказывает: «Стихи тоже пишет подлец … “А всё-таки, говорит, лучше твоего Пушкина написал, потому что и в шутовской стишок сумел гражданскую скорбь всучить”. … да ведь гордился стишонками как! Самолюбие-то у них, самолюбие! “На выздоровление больной ножки моего предмета” – это он такое заглавие придумал – резвый человек!
Уж какая ж это ножка,
Ножка, вспухшая немножко!
Доктора к ней ездят, лечат,
И бинтуют, и калечат…»
Не стоит приводить это творение полностью, так как по первой строфе можно судить о нём в целом и даже предположить (зная натуру Ракитина), что этот «шедевр» попросту украден у какого-нибудь скотопригоньевского Лебядкина.
В довершение сущности Ракитина вспомним, что его статья в газете «Слухи» (приводится в пересказе повествователя) от начала и до конца написана чернилами, разведёнными на откровенной лжи и передёргивании фактов, и, плюс ко всему, он способен на откровенное предательство – продаёт Алёшу Карамазова Грушеньке за двадцать пять сребреников. Как об этом сказано в романе: «…был он человек серьёзный и без выгодной для себя цели ничего не предпринимал…»
На этом заканчивается портретная галерея литературных монстров в произведениях Достоевского.
6
В январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский писал:
«Все наши критики (а я слежу за литературой чуть не сорок лет), и умершие, и теперешние, все, одним словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчёт о текущей русской литературе, чуть-чуть поторжественнее (прежде, например, бывали в журналах годовые январские отчёты за весь истекший год), – то всегда употребляли, более или менее, но с великой любовью, всё одну и ту же фразу: “В наше время, когда литература в таком упадке”, “в наше время, когда русская литература в таком застое”, “в наше литературное безвремение”, “странствуя в пустынях русской словесности”, и т. д., и т. д. На тысячу ладов одна и та же мысль. А, в сущности, в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и ещё человек десять, по крайней мере, преталантливых беллетристов…»







