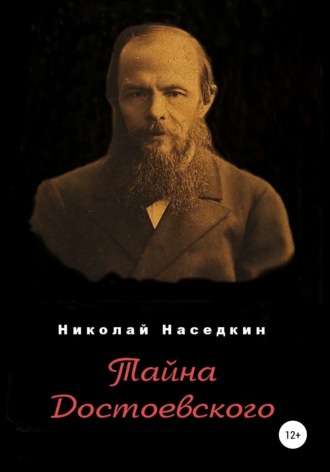
Николай Николаевич Наседкин
Тайна Достоевского
ТРИ РОМАНА ДОСТОЕВСКОГО
Сразу надо уточнить, что речь пойдёт не о «Преступлении и наказании» или, допустим, «Братьях Карамазовых», речь о реальных, земных романах писателя, которые он в муках и радостях пережил в своей судьбе и которые, конечно же, отразились-аукнулись в его творчестве, помогли достоверно отобразить полные страстей отношения героев «Униженных и оскорблённых», «Игрока» и других произведений.
Мария
Первая любовь пришла к Достоевскому поздно, в 33 года, но накал её, может быть, от этого был ещё более ярок. До каторги автору «Бедных людей» довелось лишь испытать безответное увлечение Авдотьей Яковлевной Панаевой, которое он легко пережил. Теперь же не то! В Семипалатинске, где писатель-петрашевец отбывал солдатчину после каторги, он встретил Марию Дмитриевну Исаеву, жену местного чиновника. К тому времени муж Марии Дмитриевны совершенно спился, семья жила в нищете, все мечты романтичной 30-летней женщины терпели крах. Достоевский не мог не привлечь её внимание, а она – его: уж больно заметно оба они отличались от семипалатинского общества. По свидетельству А. Е. Врангеля, близкого друга писателя той поры, Исаева была «довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловещий румянец играл на её бледном лице, и несколько лет спустя чахотка унесла её в могилу. Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна…» Эта женщина поразила Достоевского и внешностью, и интеллектом и, думается, не в последнюю очередь вот этим самым чахоточным романтичным румянцем. Он стал буквально пропадать в доме Исаевых по целым дням. Муж Марии Дмитриевны, человек тихий, смирный, тоже чахоточный и крепко пьющий, никак не мог служить помехою в развитии их романа.
Врангель уверяет, что-де любви со стороны Исаевой никакой не было – она всего лишь «пожалела несчастного, забитого судьбою человека»[1]. И далее мемуарист даже с какой-то горечью констатирует: Фёдор Михайлович жалость принял за любовь и сам влюбился без памяти. Врангель писал свои воспоминания спустя четверть века после смерти Достоевского, уже зная всё его творчество. Неужели ж он забыл, как умели любить и как воспринимали любовь герой-рассказчик «Белых ночей», Иван Петрович в «Униженных и оскорблённых», Разумихин в «Преступлении и наказании», князь Мышкин в «Идиоте», Шатов в «Бесах», Дмитрий Карамазов, наконец? Для этих героев, как и для их создателя, главным было – любить самому, жить этим всепоглощающим чувством и отдаваться ему целиком со всем пылом сердца и души без остатка, вплоть до погибели. И если предмет любви хотя бы не отвергает их чувства, не отталкивает, а, наоборот, отвечает хоть в какой-то мере взаимностью – пусть это называется состраданием, жалостью, уважением, – это уже верх блаженства и счастья.
Конечно, Достоевский знал-видел, не мог не знать (да Мария Дмитриевна и говорила об этом прямо), что возлюбленная его головы не теряет: от нищего мужа-пропойцы (а он в то время ещё и лишился работы) она никак не могла уйти к тоже нищему, бесправному, больному и совершенно, как тогда казалось, бесперспективному литератору. Однако ж, на первых порах романа уже одно общение, каждодневные встречи, близость с этой необыкновенной по семипалатинским меркам женщиной превратило для Достоевского солдатчину в райскую жизнь.
Но вскоре, в конце мая 1855-го, через несколько месяцев после начала их отношений, муж Исаевой получает место службы в городе Кузнецке, за пятьсот вёрст от Семипалатинска. Врангель свидетельствует: «Отчаяние Достоевского было беспредельно; он ходил как помешанный при мысли о разлуке с Марией Дмитриевной; ему казалось, что всё для него в жизни пропало. <…> Сцену разлуки я никогда не забуду. Достоевский рыдал навзрыд, как ребёнок…»
Добрый друг Александр Егорович накачал Исаева шампанским, дабы «голубки» могли без помех проститься. После проводов отъезжающих далеко за город вернулись домой на рассвете. «Достоевский не прилёг – всё шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собою <…> лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку за другой…»[2]
Какая невероятная жалость, что из всей интенсивно-лихорадочной переписки Фёдора Михайловича с Марией Дмитриевной периода вынужденной разлуки (а писал бедный тоскующий солдат в Кузнецк чуть ли не каждый день!) сохранилось лишь одно-единственное письмо Достоевского – от 4 июня 1855 года. Но и по нему можно вполне составить преставление о накале его страсти: «…Только об Вас и думаю. К тому же, Вы знаете, я мнителен; можете судить об моём беспокойстве. <…> Если б Вы знали, до какой степени осиротел я здесь один! Право, это время похоже на то, как меня первый раз арестовали в сорок девятом году и схоронили в тюрьме, оторвав от всего родного и милого. Я так к Вам привык. На наше знакомство я никогда не смотрел, как на обыкновенное, а теперь, лишившись Вас, о многом догадался по опыту. <…> Вы были мне моя родная сестра. Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни. <…> Сердце моё всегда было такого свойства, что прирастает к тому, что мило, так что надо потом отрывать и кровенить его. Живу я теперь совсем один, деваться мне совершенно некуда; мне здесь всё надоело. Такая пустота! <…> Когда-то дождусь Вашего письма! Я так беспокоюсь! <…> Прощайте, незабвенная Марья Дмитриевна! Прощайте! ведь увидимся, не правда ли? <…> Прощайте, прощайте! Неужели не увидимся. Ваш Достоевский»[3].
Надо учесть, что это письмо написано ещё к чужой жене, да ещё и с вероятностью прочтения её мужем – отсюда и «сестра», и строки о «дорогом друге» и «добрейшей души человеке» Александре Ивановиче Исаеве (которые для экономии места пришлось сократить), и изо всех сил сдерживаемые выплески чувств. Можно только представить, какие страсти бурлили в более поздних письмах-посланиях Фёдора Михайловича к Марии Дмитриевне – уже вдове, потом любовнице молодого кузнецкого учителя Вергунова и, наконец, своей невесте. Однако ж, в какой-то мере об этом мы можем судить по письмам Достоевского к Врангелю, который в конце 1855 года совершает длительные служебные поездки в Бийск и Барнаул (он занимал в Семипалатинске должность стряпчего по уголовным и гражданским делам, по нынешнему – прокурора), а в самом начале 1856 года уезжает из Сибири в Петербург и, к нашему счастью, бережно сохранит все послания друга-писателя из семипалатинской ссылки.
Ещё в Бийск Фёдор Михайлович сообщает Александру Егоровичу горестную, но для него подспудно – чего уж там кривить душой! – и сулящую радужные матримониальные перспективы весть о смерти в Кузнецке А. И. Исаева. Кончина горемыки последовала 4 августа 1855 года, ровно – день в день – через два месяца после написания уже цитировавшегося письма Достоевского в Кузнецк, в котором он жмёт крепко руку Александру Ивановичу, целует его, называет братом и желает-советует тому на новом месте быть поразборчивее в людях, не водить дружбы с грязными собутыльниками и выражает надежду, что «брат» на пожелания эти не рассердится… Исаев толком воспользоваться не успел дружеско-братскими советами своего соперника. А у Достоевского вскоре, как уже упоминалось, появится новый соперник и опять же «брат» – Н. Б. Вергунов.
Если бы сам писатель не рассказал впоследствии в художественной форме и очень убедительно о подобных взаимоотношениях между соперниками в романе «Униженные и оскорблённые», в это просто невозможно было бы поверить. Любовный треугольник в книге (Иван Петрович – Наташа Ихменева – Алёша Валковский) в точности повторяет-копирует жизненный любовный треугольник (Достоевский – Исаева – Вергунов). Многомудрый не по возрасту Н. А. Добролюбов, разбирая-рецензируя роман «Униженные и оскорблённые», желчно обронит по поводу странностей любви Ивана Петровича: «Что за куричьи чувства!..»[4] Многоопытный 25-летний критик «Современника» сомневался, что подобные чувства мог испытывать реальный человек в действительной жизни. Он не хотел верить, что автор «Униженных и оскорблённых» – не романтик, не сентименталист, а реалист чистой воды, и не знал, что Иван Петрович во многом является автопортретным и автобиографическим героем[5].
Вспомним, что ещё в «Белых ночах» сделан как бы эскиз подобного сюжетного хода: герой-рассказчик добровольно становится посредником между любимой девушкой и своим более счастливым соперником. Тогда, в 1848-м, это действительно была фантазия молодого Достоевского на тему странностей любви. И вот судьба, словно подыгрывая писателю, подбросила ему похожую жизненную ситуацию, дабы в «Униженных и оскорблённых», а позже и в «Идиоте» он мог воссоздать болезненные взаимоотношения героев, руководствуясь личным мучительным опытом.
Итак, до Семипалатинска допорхнули тревожные вести о предполагаемом новом замужестве вдовы Исаевой. Достоевский пишет в это время (23 марта 1856 г.) Врангелю пространное письмо (более десяти страниц убористого текста), переполненное жалобами, страхами, отчаянием и бессильными проклятиями на горькую судьбину. Причём, надо подчеркнуть, речь ещё идёт не о реальном сопернике Вергунове, который объявится-появится позже, а только о намёках самой Марии Дмитриевны и слухах-сплетнях из Кузнецка. Вот лишь несколько фрагментов из этого письма-гимна несчастной ускользающей любви:
«Уведомляю Вас, что дела мои в положении чрезвычайном. La dame (la mienne) /моя дама/ грустит, отчаивается, больна поминутно, теряет веру в надежды мои, в устройство судьбы нашей и, что всего хуже, окружена в своём городишке (она ещё не переехала в Барнаул) людьми, которые смастерят что-нибудь очень недоброе: там есть женихи. Услужливые кумушки разрываются на части, чтоб склонить её выйти замуж, дать слово кому-то, имени которого ещё я не знаю. <…> Я предугадывал, что она что-то скрывает от меня. <…> И что ж? Вдруг слышу здесь, что она дала слово другому, в Кузнецке, выйти замуж. Я был поражён как громом. В отчаянии я не знал, что делать, начал писать к ней, но в воскресенье получил и от неё письмо, письмо приветливое, милое, как всегда, но скрытное ещё более, чем всегда. Меньше прежнего задушевных слов, как будто остерегаются их писать. Нет и помину о будущих надеждах наших, как будто мысль об этом уж совершенно отлагается в сторону. Какое-то полное неверие в возможность перемены в судьбе моей в скором времени и наконец громовое известие: она решилась прервать скрытность и робко спрашивает меня: “Что если б нашёлся человек, пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный, и если б этот человек делал ей предложение – что ей ответить?” Она спрашивает моего совета. <…> Просит обсудить дело хладнокровно, как следует другу, и ответить немедленно <…> прибавляет, что она любит меня, что это одно ещё предположение и расчёт. Я был поражён как громом, я зашатался, упал в обморок и проплакал всю ночь. Теперь я лежу у себя <…>. Неподвижная идея в моей голове! Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О, не дай Господи никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь Вам, что я пришёл в отчаяние. <…> Я написал ей письмо в тот же вечер, ужасное, отчаянное. Бедненькая! ангел мой! Она и так больна, а я растерзал её! Я, может быть, убил её этим письмом. Я сказал, что я умру, если лишусь её. Тут были и угрозы и ласки и униженные просьбы, не знаю что. <…> Но рассудите: что же делать было ей, бедной, заброшенной, болезненно мнительной и, наконец, потерявшей всю веру в устройство судьбы моей! Ведь не за солдата же выйти ей…»
Здесь возникает резонный вопрос: это кому же Фёдор Михайлович объясняет-оправдывает поведение Марии Дмитриевны – Врангелю или себе? Далее он начинает упорно твердить, опять же пытаясь, скорее всего, уверить самого себя, что она только его одного и любит, что решение её о замужестве в Кузнецке находится ещё только в проекте и что всё ещё, вероятно, можно переменить… Но успокоить-утишить себя никак не получается, и Достоевский вновь выплёскивает на бумагу всё своё запредельное горе-отчаяние:
«<…> Теперь что мне делать! Никогда в жизни я не выносил такого отчаяния… Сердце сосёт тоска смертельная, ночью сны, вскрикиванья, горловые спазмы душат меня, слёзы то запрутся упорно, то хлынут ручьём. Посудите же и моё положение. Я человек честный. Я знаю, что она меня любит. Но что если я противлюсь её счастью? <…> Отказаться мне от неё невозможно никак, ни в каком случае. Любовь в мои лета не блажь, она продолжается два года, слышите, два года, в 10 месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости. Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш! <…> я готов жизнь мою за неё отдать и отказался бы от всех надежд моих в её пользу. <…> Поймите же, что это для неё смерть и гибель выйти там замуж! <…> Она в положении моей героини в “Бедных людях”, которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!)…»
Между жалобами и стенаниями письмо заполнено прожектами страдающего влюблённого солдата о кардинальном переустройстве своего статус-кво: как вырваться с помощью петербургских влиятельных знакомых из солдатчины, как начать печататься хотя бы инкогнито (а ни одного законченного произведения, за исключением «Детской сказки», ещё и в помине нет!), как раздобыть денег, дабы «откупить» бедствующую Марию Дмитриевну от вынужденного брака…
А между тем, социальный статус бывшего петрашевца начинает повышаться. И это внушает ему уже конкретные надежды на возможность повести Марию Дмитриевну под венец. Он уже унтер-офицер, в кругах высшего военного начальства рассматривается – и вполне благожелательно – вопрос о производстве его в прапорщики, а это, в свою очередь, даст-подарит возможность опальному писателю, во-первых, вновь свободно печататься и, во-вторых, уже реально хлопотать о выходе в статскую жизнь. Казалось бы, надо только ждать и радоваться…
Но вот в это-то время и обрушивается на Достоевского со стороны его возлюбленной жестокий удар. В начале июня 1856 года он нелегально вырывается в Кузнецк, встречается с Исаевой, и она признаётся ему в своём «увлечении» учителем Вергуновым. И опять же мы все эти сцены разыгравшейся реальной любовной драмы, все переживаемые Достоевским чувства, можем легко представить, вчитываясь в соответствующие страницы «Униженных и оскорблённых». Вот, к примеру:
« – Как! Сам же и сказал тебе, что может другую любить, а от тебя потребовал теперь такой жертвы?
– <…> Что ж? Лучше, что ль, если б он лгал? А что он увлёкся, так ведь стоит только мне неделю с ним не видаться, он и забудет меня и полюбит другую, а потом как увидит меня, то и опять у ног моих будет. Нет! Это ещё и хорошо, что я знаю, что не скрыто от меня это; а то бы я умерла от подозрений. Да, Ваня! Я уж решилась: если я не буду при нём всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, забудет и бросит. Уж он такой; его всякая другая за собой увлечь может. А что же я тогда буду делать? Я тогда умру… да что умереть! Я бы и рада теперь умереть! А вот каково жить-то мне без него? Вот что хуже самой смерти, хуже всех мук!..»
Можно подумать, что здесь с примером что-то напутано, но это не так. Да, «повествователю» Ивану Петровичу автор, само собой, подарил и черты автобиографичности-автопортретности, и свой литературный талант, и своё поведение периода первой влюблённости… Но самый интерес как раз в том и состоит, что свои личные мысли-чувства-переживания без памяти любящего, но сомневающегося во взаимности человека, готового безропотно добиваться благосклонности предмета любви вновь и вновь, Фёдор Михайлович доверил как раз Наташе Ихменевой. Это очень наглядно видно, если сопоставить данный отрывок из романа с письмом Достоевского всё тому же Врангелю от 14 июля 1856 года:
«…Я увидел её! Что за благородная, что за ангельская душа! Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого. Я там провёл два дня. В эти два дня она вспомнила прошлое, и её сердце опять обратилось ко мне. <…> Я провёл не знаю какие два дня, это было блаженство и мученье нестерпимые! К концу второго дня я уехал с полной надеждой. Но вполне вероятная вещь, что отсутствующие всегда виноваты. Так и случилось! Письмо за письмом, и опять я вижу, что она тоскует, плачет и опять любит его более меня! <…> Я не знаю ещё, что будет со мной без неё. Я пропал, но и она тоже…»
Далее Достоевский пересказывает другу-товарищу все резоны против брака Марии Дмитриевны с Вергуновым, каковые он перед этим высказывал горячо и ей, и своему сопернику тоже в письме, посланное на имя обоих сразу после тайной поездки в Кузнецк и которое, увы, тоже не сохранилось. Он попытался внушить Вергунову и любимой, чуть ли не отечески, что-де ему, Николаю Борисовичу, в его 24 года, с учительским жалованием, с безрадостной перспективой так навсегда и застрять в глухоманной Сибири, не следует губить судьбу женщины старше его, образованной, видавшей свет, больной, да ещё и имеющей на руках ребёнка. Между прочим, Фёдор Михайлович за эти два дня в Кузнецке «сошёлся» со своим молодым соперником-разлучником, который даже у него «плакал на плече». Но, вероятно, вновь вспыхнувшие чувства к нему, учителю, со стороны Марии Дмитриевны и вновь удалённость конкурента иссушили сентиментальность Вергунова, и он не только написал Достоевскому «ответ ругательный», но и сумел «вооружить» Исаеву против него. «Я как помешанный в полном смысле слова всё это время…», – вырывается из-под пера Фёдора Михайловича.
И что же, в конце концов, делает этот «помешанный», униженный, вновь отставленный и теряющий последние надежды на взаимность любимой женщины и совместное счастье с нею человек? Можно было бы догадаться, помня-зная содержание «Униженных и оскорблённых», но проще и нагляднее дочитать данное письмо Врангелю до конца и узнать, что: 1) Достоевский продолжает активно хлопотать об устройстве сына Исаевой, Паши, воспитанником в Сибирский кадетский корпус (и хлопоты эти позже увенчаются успехом); 2) хлопочет также о выделении денежного пособия вдове Исаевой и 3) просит-умоляет Александра Егоровича подыскать новое, более денежное место… Вергунову! Да, да! Уж такие, видимо, Фёдор Михайлович испытывал «куричьи чувства», что ради любимой женщины взялся-решился хлопотать об устройстве судьбы своего более счастливого соперника. «Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. <…> Это всё для неё, для неё одной. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что!..»
Ровно через неделю Врангелю отсылается из Семипалатинска новое письмо, которое ярко свидетельствует об обострении ситуации и о сверхкритическом состоянии, в каковом находится несчастный влюблённый унтер-офицер Достоевский. И следуют опять просьбы похлопотать об устройстве Паши Исаева, единовременном пособии Марии Дмитриевне в 285 рублей серебром, каковые спасут её, ибо её брак с Вергуновым «потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для неё бедность, опять страдание…» Казалось бы, Достоевский полностью смирился уже с происшедшим и выплакал все слёзы. Но нет, как выражаются поэты-романтики, вулкан далеко ещё не утих, и под слоем пепла клокотала раскалённая лава чувств: «…в настоящее время почти ни на что не способен и так на всё тяжело смотрю! Если б хоть опять увидеть её, хоть час один! И хотя ничего бы из этого не вышло, но по крайней мере я бы видел её! <…> теперь, ей-Богу, хоть в воду! Хоть вино начать пить!..»
Как прожил Фёдор Михайлович следующие полтора месяца – остаётся только гадать-догадываться: письменных свидетельств не сохранилось. С уверенностью можно только сказать, что он с нетерпением, лихорадочно ждал-дожидался офицерского чина. И вот в первых числах октября это произошло. Новоиспечённый прапорщик на крыльях любви устремляется спасать своё счастье, но, не имея официальной подорожной до Кузнецка, добирается только до городка Змиева. Однако ж, Мария Дмитриевна на условленную встречу, увы, не приехала. Впрочем, обратимся к очередному письму Достоевского в Петербург к Врангелю от 9 ноября 1856 года с подробным и эмоциональным отчётом о своих делах и состоянии своей души. «<…> Производство в офицеры если обрадовало меня, так именно потому, что, может быть, удастся поскорее увидеть её. <…> Люблю её до безумия, более прежнего. Тоска моя о ней свела бы меня в гроб и буквально довела бы меня до самоубийства, если б я не видел её <…> Я ни об чём более не думаю. Только бы видеть её, только бы слышать! Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь <…> или топиться или удовлетворить себя. <…> О, не желайте мне оставить эту женщину и эту любовь. Она была свет моей жизни…»
Но вот, кажется, Бог обращает на страдальца своё благосклонное внимание. В конце ноября прапорщику Достоевскому удаётся на пять дней приехать в Кузнецк. Точки над i наконец расставлены: Фёдор Михайлович делает официальное предложение Марии Дмитриевне и – о счастье и радость! – она отвечает «да». Об этом он взахлёб сообщает в письмах Врангелю и брату Михаилу Михайловичу соответственно 21-го и 22-го декабря 1856 года. Причём письмо брату пишется, как видим, в годовщину инсценировки казни на Семёновском плацу, о чём бывший петрашевец в пылу радости и не вспоминает. Тогда, ровнёхонько 7 лет назад, в письме тому же Михаилу звучал подлинный гимн жизни и выражалась уверенность: «Теперь уж лишения мне нипочём, и потому не пугайся, что меня убьёт какая-нибудь материальная тягость. Этого быть не может…» Здесь Достоевский имел в виду, в первую очередь, физическую тягость, трудности каторжной и солдатской жизни. Но выражение «материальная тягость» вполне может быть отнесено и к безденежью, нищете. В письме к брату из Петропавловской крепости автор «Бедных людей» восклицал: «Да, если нельзя будет писать, я погибну!..», – имея в виду, что жизнь без творчества просто не имеет для него смысла. Через 7 лет в письме к Врангелю он воскликнет почти то же самое: «Да если печатать не позволят ещё год – я пропал. Тогда лучше не жить!..» Однако ж, теперь ему мало иметь право писать-творить, ему до зарезу необходимо и зарабатывать своим творчеством деньги – ради Марии Дмитриевны, ради обеспечения их семейной жизни, дабы любимая, всё же отдавшая ему предпочтение перед соперником, вскоре горько об этом не пожалела бы.
Но опять самое примечательное в этом послании счастливого жениха, может быть, то, что в последних строках он вновь просит своего влиятельного столичного друга-товарища («прошу Вас на коленях»!) походатайствовать за Вергунова, устроить его в Томск на место с 1000 рублей жалования: «Теперь он мне дороже брата родного…»
Денег Достоевский назанимал-добыл и 6 февраля 1857 года в Одигитриевской церкви г. Кузнецка состоялось венчание его с Марией Дмитриевной Исаевой. Одним из двух «поручителей по женихе» (то есть, шафером-свидетелем) был учитель Кузнецкого училища… Вергунов (!). Свадьба вышла весьма пышная и многолюдная. Фёдор Михайлович был счастлив, весел и «очаровал» кузнецкое общество. Впрочем, если принять во внимание одну довольно грязную сплетню, то вполне вероятно, что под внешней весёлостью жениха клокотали обида, горечь и ревность. Любовь Фёдоровна Достоевская в книге «Достоевский в изображении своей дочери» уверенно пишет, что-де «накануне своей свадьбы Мария Дмитриевна провела ночь у своего возлюбленного, ничтожного домашнего учителя, то есть – Вергунова»[6]. Эта, увы, жизнеподобная сплетня, видимо, тотчас же стала известна Достоевскому по приезде его в Кузнецк. Впрочем, не исключено, что уже много позже Мария Дмитриевна в минуту злой ссоры с мужем уязвила-ранила его таким признанием. Впоследствии, в минуту горькой откровенности, в свою очередь Фёдор Михайлович поделился своим давешним горем с Анной Григорьевной, а та через много лет поведала об этой некрасивой истории с первой женой Достоевского (уж Бог весть из каких соображений!) своей повзрослевшей дочери…
Однако ж – это уже не суть важно. С началом семейной жизни период запредельных страстей и самоубийственных состояний-настроений, связанных с любовной лихорадкой, в жизни-судьбе Достоевского как бы заканчивается. Пик его первой любви пришёлся на период жениховства, и после свадьбы накал страстей пошёл на убыль. Началась обыденная семейная жизнь, полная хозяйственных бытовых хлопот, началось, если можно так выразиться, чрезмерное беспрерывное общение двух обременённых болезнями и имеющих далеко не ангельские характеры людей. Причём, у Марии Дмитриевны совершенно не было, как впоследствии у Анны Григорьевны, преклонения перед талантом (уж не говоря о гении!) своего мужа. Позже, уже после смерти первой жены, Фёдор Михайлович в письме Врангелю (31 марта – 14 апреля 1865 года) вполне трезво подытоживает-оценивает и характеризует свою семейную жизнь так: «О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил её тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. <…> несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по её странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), – мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу…»
Конечно, быт опального писателя после женитьбы значительно улучшился. По воспоминаниям дочери ротного командира Гейбовича, под началом которого служил прапорщик Достоевский, З. А. Сытиной, мы знаем, что он с женой занимал домик из четырёх комнат, и в нём было «мило, просто и уютно», имелся даже «куст волкомерии в деревянной кадочке»[7]. Достоевские принимали гостей, сами отдавали визиты. Одним словом, жили вполне обывательски, по-провинциальному покойно и размеренно. Можно было бы пофантазировать о том, какую сумятицу внёс в жизнь молодожёнов учитель Вергунов, который в августе 1857-го неожиданно перебирается на службу в Семипалатинск. Возобновилась или нет связь-страсть между ним и Марией Дмитриевной – осталось неизвестным. Но даже если и так, Достоевского это, скорей всего, уже никак не могло подтолкнуть к мыслям о самоубийстве. Больше того, уже сам Фёдор Михайлович, вероятно, давал-преподносил своей супруге поводы для ревности. Существовала-жила в Семипалатинске какая-то таинственная Марина О., совсем молоденькая девушка, которой прапорщик-писатель давал уроки. По словам Врангеля, когда Достоевский в октябре 1865 года гостил у него в Копенгагене, они много говорили-вспоминали о Сибири, в том числе – «и о покойнице Марии Дмитриевне, и о красавице Марине О., которую так ревновала к нему (Достоевскому. – Н. Н.) его жена»[8].
Вероятно, можно согласиться с большим спецом в любовно-сексуальных вопросах Марком Слонимом (автором книги «Три любви Достоевского») в том, что о физической гармонии между супругами в семье Достоевских оставалось только мечтать, и постепенно Фёдор Михайлович начал относиться к Марии Дмитриевне как к сестре, как к больному близкому человеку, требующему не мужской страсти, а обыкновенной человеческой ласки, заботы, бережного ухода.
Она умерла 15 апреля 1864 года. Ночью, находясь в комнате наедине с ещё не остывшим телом, Достоевский заносит в записную тетрадь свои размышления («Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?..»), которые сложились в своеобразный философский трактат о жизни и смерти, смерти и бессмертии, предназначении человека на земле. В этой записи и сконцентрированы-обозначены философские концепции Достоевского-писателя, Достоевского-мыслителя, которые он будет разрабатывать, углублять, исследовать во всех последующих своих великих романах.
Остаётся добавить, что штрихи внешности, характера и судьбы Марии Дмитриевны отразились, в какой-то мере, в образах Наташи Ихменевой («Униженные и оскорблённые»), Катерины Ивановны Мармеладовой («Преступление и наказание») и Катерины Ивановны Верховцевой («Братья Карамазовы»).
Аполлинария
Встреча с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой стала для Фёдора Михайловича и счастьем, и погибелью. Это была, что называется, роковая любовь. До предельного отчаяния доходил порой Достоевский в «годы близости» с этой инфернальной женщиной. При своей внешней ангельской красоте Аполлинария обладала таким далеко не ангельским характером, что могла довести до самоубийства человека и с более уравновешенным характером, чем у Достоевского. Да и сама она была наклонна к суициду и даже пыталась с собой покончить. Исследователи творчества Достоевского не без основания полагают, что, вспоминая именно Аполлинарию Суслову, писатель создавал образы таких своих героинь, мягко говоря – со своеобразными характерами, как Настасья Филипповна («Идиот»), Лиза («Бесы»), Катерина Ивановна («Братья Карамазовы»), ну и, конечно, в первую и главную очередь – Полина в «Игроке».
Роман их начался вполне логично. Молодая вольнослушательница Петербургского университета (ей чуть больше 20-ти) и начинающая писательница знакомится с сорокалетним Достоевским во время одного из литературных вечеров в самом начале 1861 года, предлагает в журнал «Время» свою повесть «Покуда», которая вскоре благополучно и появляется-печатается на его страницах. Естественно, знакомство юной красивой и эмансипированной авторши с фактическим редактором журнала перерастает в более серьёзное и взаимное чувство. Ни разница в возрасте почти в двадцать лет, ни наличие хотя уже и не страстно любимой и к тому же серьёзно больной, но всё же законной жены-супруги, ни хроническое безденежье-нищета (обстоятельство, отнюдь не красящее мужчину-ухажёра), – ничто не остановило, не удержало Фёдора Михайловича от сладостного, но опрометчивого сближения с Аполлинарией Прокофьевной. В свою очередь, ни разница в возрасте, ни семейно-брачная несвобода избранника, ни его безденежье, ни даже собственная девическая невинность (в те времена ещё чрезвычайно немаловажный фактор!) также не остановили молодую девушку от притягательного, но опрометчивого шага. Они сошлись – коса и камень…
Начальный, петербургский, период их отношений хотя и был окрашен, как это всегда и бывает, ярким пламенем вдруг вспыхнувшей страсти, но несколько омрачался тем, что приходилось таиться-скрываться, осторожничать, сдерживать проявления своих чувств. По-настоящему любовь их должна была разгореться в совместном путешествии по заграницам – подальше от дома, от Марии Дмитриевны, от журнальных обременительных забот, от досаждающих кредиторов, которые, конечно же, не способствовали поддержанию приподнятого настроения, столь необходимого в страстной безрассудной любви.







