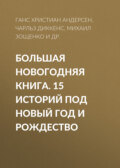Николай Лесков
Овцебык
Глава вторая
Начался знойный июнь. Василий Петрович являлся к нам аккуратно всякий день часов в двенадцать, снимал свой коленкоровый галстук, подтяжки и, сказав обоим нам «здравствуйте», усаживался за своих классиков. Так проходило время до обеда; после же обеда он закуривал трубочку и, став у окна, обыкновенно спрашивал: «что ж, кондиций?» Прошел месяц с того дня, как Овцебык каждый день повторял этот вопрос Челновскому, и целый месяц всякий раз слышал один и тот же самый неутешительный ответ. Места даже и в виду не было. Василия Петровича, по-видимому, это, однако, нисколько не обходило. Он кушал с прекрасным аппетитом и был постоянно в своем неизменном настроении духа. Только раз или два я видел его раздраженнее обыкновенного; но и эта раздражительность не имела никакого соотношения с положением дел Василия Петровича. Она происходила от двух совершенно сторонних обстоятельств. Раз он встретился с бабой, которая рыдала впричет, и спросил ее своим басом: «Чего, дура, ревешь?» Баба сначала испугалась, а потом рассказала, что у нее изловили сына и завтра ведут его в рекрутский прием. Василий Петрович вспомнил, что делопроизводитель в рекрутском присутствии был его товарищем по семинарии, сходил к нему рано утром и возвратился необыкновенно расстроенным. Ходатайство его оказалось несостоятельным. В другой раз партию малолетних еврейских рекрутиков перегоняли через город. В ту пору наборы были частые. Василий Петрович, закусив верхнюю губу и подперши фертом руки, стоял под окном и внимательно смотрел на обоз провозимых рекрут. Обывательские подводы медленно тянулись; телеги, прыгая по губернской мостовой из стороны в сторону, качали головки детей, одетых в серые шинели из солдатского сукна. Большие серые шапки, надвигаясь им на глаза, придавали ужасно печальный вид красивым личикам и умным глазенкам, с тоскою и вместе с детским любопытством смотревшим на новый город и на толпы мещанских мальчишек, бежавших вприпрыжку за телегами. Сзади шли две кухарки.
– Тоже, чай, матери где-нибудь есть? – сказала, поровнявшись с нашим окном, одна рослая рябая кухарка.
– Гляди, может и есть, – отвечала другая, запустив локти под рукава и скребя ногтями свои руки.
– И ведь им небось, хоть и жиденята, а жалко их?
– Да ведь что ж, матка, делать!
– Разумеется, а только по материнству-то?
– Да, по материнству, – конечно… своя утроба… А нельзя…
– Конечно.
– Дуры! – крикнул им Василий Петрович.
Женщины остановились, взглянули на него с удивлением, обе враз оказали: «Чего, гладкий пес, лаешься», и пошли дальше.
Мне захотелось пойти посмотреть, как будут ссаживать этих несчастных детей у гарнизонной казармы.
– Пойдемте, Василий Петрович, к казармам, – позвал я Богословского.
– Зачем?
– Посмотрим, что там с ними будут делать.
Василий Петрович ничего не отвечал; но когда я взялся за шляпу; он тоже встал и пошел вместе со мною. Гарнизонные казармы, куда привезли переходящую партию еврейских рекрутиков, были от нас довольно далеко. Когда мы подошли, телеги уже были пусты и дети стояли правильной шеренгой в два ряда. Партионный офицер с унтер-офицером делал им проверку. Вокруг шеренги толпились зрители. Около одной телеги тоже стояло несколько дам и священник с бронзовым крестом на владимирской ленте. Мы подошли к этой телеге. На ней сидел один больной мальчик лет девяти и жадно ел пирог с творогом; другой лежал, укрывшись шинелью, и не обращал ни на что внимания; по его раскрасневшемуся лицу и по глазам, горевшим болезненным светом, можно было полагать, что у него лихорадка, а может быть тиф.
– Ты болен? – спросила одна дама мальчика, глотавшего куски непережеванного пирога.
– А?
– Болен ты?
Мальчик замотал головой.
– Ты не болен? – опять спросила дама.
Мальчик снова замотал головой.
– Он не конпран-па – не понимает, – заметил священник и сейчас же сам спросил: – Ты уж крещеный?
Ребенок задумался, как бы припоминая что-то знакомое в сделанном ему вопросе, и, опять махнув головой, сказал: «Не, не».
– Какой хорошенький! – проговорила дама, взяв ребенка за подбородок и приподняв кверху его миловидное личико с черными глазками.
– Где твоя мать? – неожиданно спросил Овцебык, дернув слегка ребенка за шинель.
Дитя вздрогнуло, взглянуло на Василия Петровича, потом на окружающих, потом на ундера и опять на Василия Петровича.
– Мать, мать где? – повторил Овцебык.
– Мама?
– Да, мама, мама?
– Мама… – ребенок махнул рукой вдаль.
– Дома?
Рекрут подумал и кивнул головою в знак согласия.
– Памятует еще, – вставил священник и спросил: – Брудеры есть?
Дитя сделало едва заметный отрицательный знак.
– Врешь, врешь, один не берут в рекрут. Врать нихт гут, нейн, – продолжал священник, думая употреблением именительных падежей придать более понятности своему разговору.
– Я бродягес, – проговорил мальчик.
– Что-о?
– Бродягес, – яснее высказал ребенок.
– А, бродягес! Это по-русски значит – он бродяга, за бродяжество отдан! читал я этот закон о них, о еврейских младенцах, читал… Бродяжество положено искоренить. Ну, это и правильно: оседлый сиди дома, а бродяжке все равно бродить, и он примет святое крещение, и исправится, и в люди выйдет, – говорил священник; а тем временем перекличка окончилась, и ундер, взяв под уздцы лошадь, дернул телегу с больными к казарменному крыльцу, по которому длинною вереницею и поползли малолетние рекруты, тянувшие за собою сумочки и полы неуклюжих шинелей. Я стал искать глазами моего Овцебыка; но его не было. Не было его и к ночи, и на другой, и на третий день к обеду. Послали мальчика на квартиру Василия Петровича, где он жил с семинаристами, – и там его не бывало. Маленькие семинаристики, с которыми жил Овцебык, давно привыкли не видать Василия Петровича по целым неделям и не обращали никакого внимания на его исчезновение. Челновский тоже нимало не беспокоился.
– Придет, – говорил он, – бродит где-нибудь или спит во ржи, и ничего больше.
Нужно знать, что Василий Петрович, по собственному его выражению, очень любил «логовища», и логовищ этих у него было довольно много. Кровать с голыми досками, стоявшая на его квартире, никогда долго не покоила его тела. Только изредка, заходя домой, он улаживался на нее, делал мальчикам неожиданный экзамен с каким-нибудь курьезным вопросом в конце каждого испытания, и затем кровать эта опять стояла пустою. У нас он спал редко, и обыкновенно или на крыльце, или если с вечера заходил горячий разговор, не доконченный к ночи, то Овцебык ложился на полу между нашими кроватями, не позволяя себе подостлать ничего, кроме реденького половика. Утром рано он уходил или в поле, или на кладбище. На кладбище он бывал всякий день. Придет, бывало, уляжется на зеленой могиле, разложит перед собою книгу какого-нибудь латинского писателя и читает, а то свернет книгу, подложит ее под голову да смотрит на небо.
– Вы – жилец могил, Василий Петрович! – говорили ему знакомые Челновского барышни.
– Глупости говорите, – отвечал Василий Петрович.
– Вы – упырь, – говорил ему бледный уездный учитель, прослывший за литератора с тех пор, как в губернских ведомостях напечатали его ученую статью.
– Глупости сочиняете, – отвечал Овцебык и ему и опять отправлялся к своим покойникам.
Чудачества Василия Петровича приучили весь небольшой кружок его знакомых не удивляться ни одной его выходке, а потому никто и не удивился его быстрому и неожиданному исчезновению. Но он должен же был возвратиться. Никто и не сомневался, что он возвратится: вопрос был только в том, куда он скрылся? где он скитается? что его так раздражало и чем он врачует себя от этих раздражений? – это были вопросы, разрешение которых представляло для моей скуки довольно большой интерес.
Глава третья
Прошло еще три дня. Погода стояла прекрасная. Могучая и щедрая природа наша жила полною своею жизнью. Было новолунье. После жаркого дня наступила светлая, роскошная ночь. В такие ночи курские жители наслаждаются своими курскими соловьями: соловьи свищут им напролет целые ночи, а они напролет целые ночи их слушают в своем большом и густом городском саду. Все, бывало, ходят тихо и молчаливо, и лишь только одни молодые учители жарко спорят «о чувствах высокого и прекрасного» или о «дилетантизме в науке». Жарки бывали эти громкие споры. Даже в самые отдаленные куртины старого сада, бывало, доносятся возгласы: «это дилемма!», «позвольте!», «a priori рассуждать нельзя», «идите индуктивным способом» и т. п. Тогда у нас еще спорили о подобных предметах. Теперь таких споров не слышно. «Что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песни». Теперешнее русское среднее общество отнюдь не похоже на то, с которым я жил в Курске в эпоху моего рассказа. Вопросы, занимающие нас теперь, тогда еще не поднимались, и во множестве голов свободно и властно господствовал романтизм, господствовал, не предчувствуя приближения новых направлений, которые заявят свои права на русского человека и которые русский человек, известного развития, примет, как он принимает все, то есть не совсем искренно, но горячо, с аффектациею и с пересолом. Тогда еще мужчины не стыдились говорить о чувствах высокого и прекрасного, а женщины любили идеальных героев, слушали соловьев, свиставших в густых кустах цветущей сирени, и всласть заслушивались турухтанов, таскавших их под руку по темным аллеям и разрешавших с ними мудрые задачи святой любви.
Мы пробыли с Челновским в саду до двенадцати часов, много хорошего слышали и о высоком и о святой любви и с удовольствием улеглись в наши постели. Огонь у нас был уже погашен; но мы еще не спали и лежа сообщали друг другу свои вечерние впечатления. Ночь была во всем своем величии, и соловей под самым окном громко щелкал и заливался своею страстною песнью. Мы уже собирались пожелать друг другу покойной ночи, как вдруг из-за забора, отделявшего от улицы садик, в который выходило окно нашей спальни, кто-то крикнул: «Ребята!»
– Это – Овцебык, – сказал Челновский, быстро подняв голову с подушки.
Мне показалось, что он ошибся.
– Нет, это Овцебык, – настаивал Челновский и, встав с постели, высунулся в окно. Все было тихо.
– Ребята! – опять крикнул под забором тот же самый голос.
– Овцебык! – окликнул Челновский.
– Я.
– Иди же.
– Ворота заперты.
– Постучись.
– Зачем будить. Я только хотел узнать, не спите ли?
За забором послышалось несколько тяжелых движений, и вслед за тем Василий Петрович, как куль с землею, упал в садик.
– Экой чертушко! – сказал Челновский, смеясь и смотря, как Василий Петрович поднимался с земли и пробирался к окну сквозь густые кусты акации и сирени.
– Здравствуйте! – весело проговорил Овцебык, показавшись в окне.
Челновский отставил от окна столик с туалетными принадлежностями, и Василий Петрович перенес сначала одну из своих ног, потом сел верхом на подоконник, потом перенес другую ногу и, наконец, совсем явился в комнате.
– Ух! уморился, – проговорил он, снял свое пальто и подал нам руки.
– Сколько верст отмахал? – спросил его Челновский, ложась снова в свою постель.
– В Погодове был.
– У дворника?
– У дворника.
– Есть будешь?
– Если есть что, так буду.
– Побуди мальчика!
– Ну его, сопатого!
– Отчего?
– Пусть спит.
– Да что ты юродствуешь? – Челновский громко крикнул: – Моисей!
– Не буди, говорю тебе: пусть спит.
– Ну, а я не найду, чем тебя кормить.
– И не надо.
– Да ведь ты есть хочешь?
– Не надо, говорю; я вот что, братцы…
– Что, братец?
– Я к вам пришел проститься.
Василий Петрович сел на кровать к Челновскому и взял его дружески за колено.
– Как проститься?
– Не знаешь, как прощаются?
– Куда ж это ты собрался?
– Пойду, братцы, далеко.
Челновский встал и зажег свечу. Василий Петрович сидел, и на лице его выражалось спокойствие и даже счастье.
– Дай-ка мне на тебя посмотреть, – сказал Челновский.
– Посмотри, посмотри, – отвечал Овцебык, улыбаясь своей нескладной улыбкой.
– Что же твой дворник делает?
– Сено и овес продает.
– Потолковали с ним про неправды бессудные, про обиды безмерные?
– Потолковали.
– Что ж, это он, что ли, тебе такой поход насоветовал?
– Нет, я сам надумал.
– В какие ж ты направишься Палестины?
– В пермские.
– В пермские?
– Да, чего удивился?
– Что ты забыл там?
Василий Петрович встал, прошелся по комнате, закрутил свои виски и проговорил про себя: «Это уж мое дело».
– Эй, Вася, дуришь ты, – сказал Челновский.
Овцебык молчал, и мы молчали.
Это было тяжелое молчание. И я и Челновский поняли, что перед нами стоит агитатор – агитатор искренний и бесстрашный. И он понял, что его понимают, и вдруг вскрикнул:
– Что ж мне делать! Сердце мое не терпит этой цивилизации, этой нобилизации, этой стерворизации!.. – И он крепко ударил себя кулаком в грудь и тяжело опустился на кресло.
– Да что ж ты поделаешь?
– О, когда б я знал, что с этим можно сделать! О, когда б это знать!.. Я на ощупь иду.
Все замолчали.
– Можно курить? – спросил Богословский после продолжительной паузы.
– Кури, пожалуйста.
– Я здесь с вами на полу прилягу – это будет моя вечеря.
– И отлично.
– Поговорим, – представь… молчу-молчу, и вдруг мне приходит охота говорить.
– Ты чем-нибудь расстроился.
– Ребятенок мне жалко, – сказал он и сплюнул через губу.
– Каких?
– Ну, моих, кутейников.
– Чего ж тебе их жаль?
– Изгадятся они без меня.
– Ты сам их гадишь.
– Ври.
– Конечно: их учат на одно, а ты их переучиваешь на другое.
– Ну так что ж?
– Ничего и не будет.
Вышла пауза.
– А я вот что скажу тебе, – проговорил Челновский, – женился бы ты, взял бы к себе старуху мать да был бы добрым попом – отличное бы дело сделал.
– Ты мне этого не говори! Не говори ты мне этого!
– Бог с тобой, – отвечал Челновский, махнув рукой.
Василий Петрович опять заходил по комнате и, остановясь перед окном, продекламировал:
Стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.
– И стихи выучил, – сказал Челновский, улыбаясь и показывая мне на Василья Петровича.
– Умные только, – отвечал тот, не отходя от окна.
– Таких умных стихов немало есть, Василий Петрович, – сказал я.
– Все – дребедень.
– А женщины – все дрянь?
– Дрянь.
– А Лидочка?
– Что же Лидочка? – спросил Василий Петрович, когда ему напомнили имя очень милой и необыкновенно несчастной девушки – единственного женского существа в городе, которое оказывало Василью Петровичу всяческое внимание.
– Вам не будет о ней скучно?
– Что это вы говорите? – спросил Овцебык, расширив свои глаза и пристально уставив их на меня.
– Так говорю. Она – хорошая девушка.
– Ну так что ж, что хорошая?
Василий Петрович помолчал, выколотил о подоконник свою трубку и задумался.
– Паршивые! – проговорил он, закуривая вторую трубку.
Челновский и я рассмеялись.
– Чего вас разбирает? – спросил Василий Петрович.
– Это дамы, что ли, у тебя паршивые?
– Дамы! Не дамы, а жиды.
– К чему ж ты тут жидов вспомнил?
– А черт их знает, чего они помнятся: у меня мать, да и у них у каждого есть по матери, и все знают, – отозвался Василий Петрович и, задув свечку, с трубкою в зубах повалился на половой коврик.
– Это ты еще не забыл?
– Я, брат, памятлив.
Василий Петрович тяжело вздохнул.
– Подохнут, сопатые, доругой, – сказал он, помолчав.
– Пожалуй.
– И лучше.
– Экое у него и сострадание-то мудреное, – сказал Челновский.
– Нет, это у вас все мудреное. У меня, брат, все простое, мужицкое. Я ваших чох-мох не разумею. У вас все такое в голове, чтоб и овцы были целы и волки сыты, а этого нельзя. Этак не бывает.
– Как же по-твоему будет хорошо?
– А хорошо будет, как бог даст.
– Бог сам ничего в людских делах не делает.
– Понятно, что всё люди будут делать.
– Когда они станут людьми, – сказал Челновский.
– Эх вы, умники! Посмотришь на вас, будто и в самом деле вы что знаете, а ничего вы не знаете, – энергически воскликнул Василий Петрович. – Дальше своего дворянского носа вам ничего не видать, да и не увидать. Вы бы в моей шкуре пожили с людьми да с мое походили, так и узнали бы, что нечего нюни-то нюнить. Ишь ты, черт этакой! и у него тоже дворянские привычки, – переломил неожиданно Овцебык и встал.
– У кого это дворянские привычки?
– У собаки, у Боксы. У кого же еще?
– Какие ж это у ней дворянские привычки? – спросил Челновский.
– Дверей не затворяет.
Мы тут только заметили, что через комнату действительно тянул сквозной ветер.
Василий Петрович встал, затворил дверь из сеней и запер ее на крючок.
– Спасибо, – сказал ему Челновский, когда он возвратился и снова растянулся на коврике.
Василий Петрович ничего не отвечал, набил еще трубочку и, закурив ее, неожиданно спросил:
– Что в книжках брешут?
– В которых?
– Ну, в ваших журналах?
– О разных вещах пишут, всего не расскажешь.
– О прогрессе все небось?
– И о прогрессе.
– А о народе?
– И о народе.
– О, горе сим мытарям и фарисеям! – вздохнув, произнес Овцебык. – Болты болтают, а сами ничего не знают.
– Отчего ты, Василий Петрович, думаешь, что уж кроме тебя никто ничего не знает о народе? Ведь это, брат, самолюбие в тебе говорит.
– Нет, не самолюбие. А вижу я, что подло все занимаются этим делом. Все на язычничестве выезжают, а на дело – никого. Нет, ты дело делай, а не бреши. А то любовь-то за обедом разгорается. Повести пишут! рассказы! – прибавил он, помолчав, – эх, язычники! фарисеи проклятые! А сами небось не тронутся. Толокном-то боятся подавиться. Да и хорошо, что не трогаются, – прибавил он, помолчав немного.
– Отчего же это хорошо?
– Да все оттого ж, говорю, что толокном подавятся, доведется их в загорбок бить, чтобы прокашлянули, а они заголосят: «бьют нас!» Таким разве поверят! А ты, – продолжал он, сев на своей постели, – надень эту же замашную рубашку, да чтобы она тебе бока не мусолила; ешь тюрю, да не морщися, да не ленись свинью во двор загнать: вот тогда тебе и поверят. Душу свою клади, да так, чтоб видели, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляй. Людие мой, людие мои! что бы я не сотворил вам?.. Людие мой, людие мои! что бы я вам не отдал? – Василий Петрович задумался, потом поднялся во весь свой рост и, протянув руки ко мне и к Челновокому, сказал: – Ребята! смутные дни настают, смутные. Часу медлить нельзя, а то придут лжепророки, и я голос их слышу проклятый и ненавистный. Во имя народа будут уловлять и губить вас. Не смущайтесь сими зовущими, и если силы воловьей в хребтах своих не чувствуете, ярма на себя не вскладывайте. Не в числе людей дело. Пятью пальцами блохи не изловишь, а одним можно. Я от вас, как и от других, большого проку не жду. Это – не ваша вина, вы жидки на густое дело. Но прошу вас, заповедь одну мою братскую соблюдите: не брешите вы никогда на ветер! Эй, право, вред в этом великий есть! Эй, вред! Ног не подставляйте, и будет с вас, а нам, вот таким Овцебыкам, – сказал он, ударив себя в грудь, – нам этого мало. На нас кара небесная падет, коли этим удовольствуемся. «Мы свои своим, и свои нас познают».
Долго и много говорил Василий Петрович. Он никогда так много не говорил и так ясно не высказывался. На небе уже брезжилась зорька, и в комнате заметно серело, а Василий Петрович все еще не умолк. Коренастая фигура его делала энергические движения, и сквозь прорехи старой ситцевой рубашки было заметно, как высоко поднималась его мохнатая грудь.
Мы заснули в четыре часа, а проснулись в девять. Овцебыка уже не было, и с тех пор я не видал его ровно три года. Чудак в то же утро ушел в страны, рекомендованные ему его приятелем, содержателем постоялого двора в Погодове.