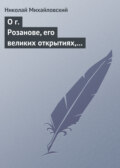Николай Михайловский
О Достоевском и г. Мережковском
Ту же идею разделения людей на два разряда исповедует и Раскольников. Для него человечество разделяется на необыкновенных людей, гениев или вообще способных сказать новое слово, и людей обыкновенных, «дрожащую тварь», могущую только повиноваться или быть жертвою первых. А эти жертвы, и часто кровавые, необходимы, потому что необыкновенные люди по необходимости же преступники, разрушители установившегося, привычного для окружающих. Им не то что разрешается, а они сами разрешают себе переступить обязательный для обыкновенных людей закон, пролить кровь, принести в мир великое страдание, и человечество оправдывает их в конце концов, венчает их лаврами, рукоплещет, молится на них. Перед Раскольниковым витает образ Наполеона, без зазрения совести лившего кровь «дрожащей твари» и ею возвеличенного{24}. Но сам Раскольников, убив старуху закладчицу, не выдержал, совесть замучила его, он покаялся, принял каторгу как законное возмездие за свой грех и оказался, таким образом, обыкновенным человеком.
Чувство греха, жажду искупления его страданиями, работу совести Достоевский очень высоко ценил[2]. Он видел в ней преимущественно народную русскую черту. «Зверства в народе много, – писал он в „Дневнике“ 1877 года (май – июнь), – но не указывайте на него. Это зверство – тина веков, она вычистится. И не то беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель. Я видал и разбойников, страшно много наделавших зверства и павших развращенною и ослабевшею волею своею ниже всего низкого; но эти развращенные и столь упавшие звери знали, по крайней мере, про себя, что они звери, и чувствовали, сколь упали они, и в минуты чистые и светлые, которые и зверям посылает Бог, – сами умели осудить себя, хотя часто не в силах уже были подняться.
Другое дело, когда зверство воздвигается над всеми, как идол, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это „добродетельными“{25}. Или: „На Западе, где хотите и в каком угодно народе, – разве меньше пьянства и варварства, не такое же разве зверство, и притом ожесточение (чего нет в нашем народе) и уже истинное, заправское невежество, настоящее непросвещение, потому что иной раз соединено с таким беззаконием, которое уже не считается там грехом, а именно стало считаться правдой, а не грехом. Но пусть, пусть все-таки в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем есть неоспоримо: это именно то, что он, в своем целом по крайней мере (и не в идеале только, а в самой заправской действительности), никогда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха за правду! Он согрешит, но всегда скажет, рано ли, поздно ли: я сделал неправду. Если согрешивший не скажет, то другой за него скажет, и правда будет восполнена. Грех есть смрад, и смрад пройдет, когда воссияет солнце вполне. Грех есть дело преходящее, а Христос вечное. Народ грешит и пакостится ежедневно, но в лучшие минуты, в Христовы минуты, он никогда в правде не ошибется“» («Дневник», 1880, август){26}.
Мне очень жаль, если читатель пробежал все вышеизложенное мельком, на том основании, что все это ему уже хорошо знакомо, все это он читал у самого Достоевского. Чтение чтению рознь. И ныне, когда звезда Достоевского, по-видимому, вновь загорается и он может стать предметом такого же слепого увлечения, какими у нас в разное время были и есть Дарвин, Толстой, Маркс, Ницше, – очень не вредно выделить некоторые его основные идеи, заваленные в его огромном литературном наследстве иллюстрирующими образами и картинами несравненной художественной силы и второстепенными мыслями и замечаниями. Я это и старался сделать, воздерживаясь от каких бы то ни было критических замечаний и совершенно минуя подробности вроде постоянного смешения национального, с одной стороны, с народным, а с другой – с социальным и т. п.
Приведенные идеи Достоевского составляют тот инструмент, на котором г. Мережковский разыгрывает свои варьяции, усиленно и до надоедливости часто нажимая на одни клавиши, еле касаясь и даже совсем обходя другие. Такая неравномерность зависит от двух причин. Во-первых, под речами Достоевского и его героев слышится трепет сомнений и колебаний, принимающий иногда характер настоящей бури, а г. Мережковского скептицизм не мучает, у него есть своя догма, очень туманная, очень запутанная на посторонний глаз, но вполне его удовлетворяющая, благодаря его способности довольствоваться словами, если они независимо от их смысла красиво укладываются рядом. Во-вторых, сюда вмешалось влияние Ницше, побуждающее г. Мережковского, усиленно подчеркивая пункты сходства между немецким мыслителем и русским романистом, в то же время ставить в некоторых местах плюс или минус там, где у Достоевского стоит, наоборот, минус или плюс, а иное и совсем обходить молчанием.