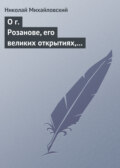Николай Михайловский
О Достоевском и г. Мережковском
Отметив, что и старец Зосима в «Братьях Карамазовых» говорит о русском «народе»: «сей народ богоносец»{8},– остановимся на минуту.
Ясно, что благоприличный Евгений Павлович Радомский, развратный злодей Ставрогин, эпилептический князь Мышкин, честный фанатик Шатов, святой старец Зосима, все они, несмотря на крайнее разнообразие их духовных физиономий, выражают мысль, принадлежащую самому Достоевскому, только иногда в более резкой форме, в какой сам он, может быть, и не решился бы ее высказать. Но что значит странный ответ Шатова: «Я верую в Россию, в ее православие, в тело Христово, в то, что новое пришествие совершится в России», а в Бога еще только буду веровать? да и это сказано с запинкой и после усиленного настояния Ставрогина. Значит, можно веровать в православие, не веруя в Бога? Как это ни странно, но такое, казалось бы, невозможное положение было знакомо Достоевскому по собственному опыту. Г. Мережковский удивляется тому, что Достоевский «остался в лоне исторического православия», несмотря на все свои сомнения и колебания относительно «вековечных» вопросов о Боге и бессмертии; удивляется и скорбит, подчеркивая слово исторический, так как он, г. Мережковский, исповедует вместе с г. Розановым «новую концепцию христианства», которая и есть истинное православие. Скорбь г. Мережковского – его дело, и нам незачем в него вмешиваться, но удивления указанный факт действительно заслуживает. Надо же, однако, как-нибудь постараться сделать его понятным, как-нибудь свести концы с концами в этом странном противоречии. Дело в том, что хотя «лик мира сего» и не очень нравился Достоевскому, но в своих общих чертах «русские порядки» были для него неприкосновенны; нападать на них значит, как мы видели, с его точки зрения, нападать на Россию и лишать ее той своеобразной мессианической роли всемирной объединительницы и спасительницы, которую он ей предрекал. И православие, как одна из основ «русских порядков», было для него именно поэтому неприкосновенно. Оно ставило точку к решению вековечных вопросов «с другого конца». Тут не было места ни колебаниям, ни сомнениям, которые всю жизнь одолевали его в будто бы тех же вопросах с противоположного конца. «Меня всю жизнь Бог мучил», – говорит в «Бесах» Кириллов{9}, и это смело мог сказать о себе сам Достоевский. Он был прав, когда говорил, что прошел страшную школу религиозных сомнений, но ошибался, когда утверждал, что в конце концов выбрался на твердый берег веры. Он принадлежал к числу тех сильных людей (чем-нибудь сильных, Достоевский был силен своим страшным талантом), о которых говорит Версилов: они страстно хотят верить и принимают свои желания за веру{10}. Как Антей в борьбе с Геркулесом получал силу, только касаясь ногами своей матери-земли, и терял ее, будучи поднят на воздух, так Достоевский получал свою веру, только когда Бог становился для него «синтетическою личностью нации», а в отвлеченном от «русских порядков» виде он лишь «мучил» его. Следы этой мучительной внутренней борьбы повсюду рассыпаны у Достоевского. Его главные действующие лица, вплоть до Алеши Карамазова, или задают, или выслушивают вопрос: «Веруете ли вы в Бога?» – или заявляют о своем неверии, или говорят о Боге и вере в него так замысловато, что выходит по малой мере двусмысленно. В этом отношении особенно достойны внимания речи Кириллова в «Бесах», которого автор наделил неумением правильно выражаться по-русски, очевидно, именно затем, чтобы внешним образом замаскировать двусмысленность его речей. «Бога нет, но он есть», – говорит Кириллов. «Бог необходим, а потому должен быть, но я знаю, что его нет и не может быть»{11}. О Ставрогине он выражается так: «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует; если же не верует, то не верует, что он не верует»{12}. Сомнения и колебания Достоевского отражаются даже в ядовитых репликах Смердякова, которому старик Григорий может ответить только пощечиной за неимением возражений; но особенно в знаменитом «бунте» Ивана Карамазова, отнюдь не одиноко стоящем, – в менее яркой форме этот «бунт» и раньше воспроизводился Достоевским – в «Необходимом объяснении» Ипполита в «Идиоте», в «Дневнике писателя» 1876 года (глава «Приговор»).
Та страстность, с которою ведутся «бунтовщиками» их бунтовские речи, не оставляет места сомнениям в том, что сюда вложено авторское задушевное, что это мучительно переживается самим Достоевским. Бунтовщики верят в бытие личного божественного Творца мира, но вера эта колеблется в них существующею в этом мире массою бесцельного, с человеческой точки зрения, зла и страдания, которому они не находят оправдания. Временами мир представляется им каким-то «бесовским хаосом», как Ивану Карамазову, «дьяволовым водевилем», как Кириллову, «наглой пробой, чтобы только посмотреть: уживется ли подобное (человеку) существо на земле или нет», как самоубийце в «Дневнике писателя». И эти кощунственные мысли рвут им сердце, они страстно ищут выхода из одолевающих их мучительных противоречий и сомнений и наконец находят его, – но не для себя. Человек, говорят они, есть существо, ограниченное тремя измерениями Эвклидовой геометрии, и в своей ограниченности не может понять царящей во вселенной гармонии. Но есть «миры иные», недоступные человеку, где все противоречия сглаживаются и цели каждого явления, кажущегося нам злодейством или страданием, получают свое объяснение. Но для «малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидовского ума» эти миры недоступны и, собственно говоря, не существуют; доступно только сознание возможности их существования. Затем, однако, мелькает надежда и на доступность, по крайней мере отчасти.