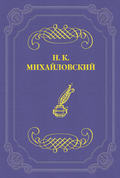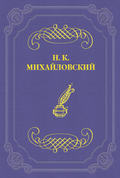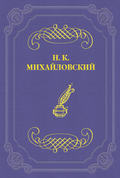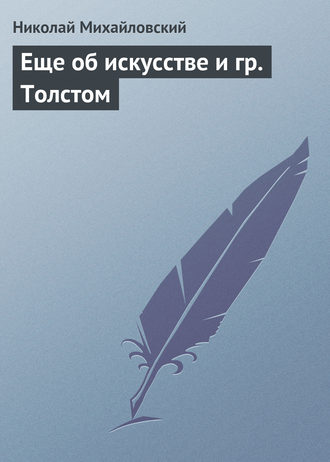
Николай Михайловский
Еще об искусстве и гр. Толстом
Без мерушки пей зелено вино,
Без расчету получай золоту казну.
Впоследствии «игра великая» и «утехи нежные» стали подвергаться гонению, не менее стремительному, чем то, которому подвергает их ныне гр. Толстой, но более властному. Народ, как бы памятуя, что его первый певец, поэт и музыкант, полумифический Баян был «Велесов внук», как его называет «Слово о полку Игореве», не прочь был сочетать искусство с остатками языческих обрядов и верований, а книжники утверждали его в той мысли, что все жизнерадостное, веселое, всякое наслаждение в искусстве есть нечто предосудительное и христианству противное. Уже летописец Нестор полагает, что «дьявол льстит трубами и скомрахи, гусльми и русалья». В другом документе читаем: «Не подобает христианам игр бесовских играти, еже есть прыганье, гуденье, песни мирские и жертвы идольские». В XVI веке псковичи обличались в таком времяпровождении в ночь на Ивана Купалу: «Мало не весь град змиятетца (возмятется) и бубны, и сопела, и гудением струнным, и всякими неподобными играми, сатанинским плесканием и плясанием, и того ради двигнется и возстанет всяка неприязненного угодия, ако в поругание и в бесчестие рождеству Предтечеву и в насмех и укоризну дни его. Стучат бубны и гласят сопелы и гудят струны; женам же и девам плескание и плясание, главам их покивание, устам их неприязнен клич и вопль всескверные песни бесовские; хребтам их вихляние и ногам их скакание и топтание». В Стоглаве{1} говорится, что в Троицкую субботу «по селам и по погостам сходятся мужи и жены за жальниках и плачутся по гробам с великим кричанием и егда начнут играти скоморохи и гудцы и прегудницы, они же от плача преставше, начнут скакати и плясати и в ладони бити и песни сатанинские пети». В XVII веке прямо запрещаются «домры, сурны, гудки, гусли, хари и всякие гудебные бесовские сосуды». Запрещаются, конечно, потому, что, по мнению властей, были слишком распространены. И таких свидетельств о допетровской России можно бы было привести еще много.
Ясно, что народ и до Петра, как и после него, не только не отрицал наслаждения в искусстве, а, напротив, искал его, с чем усердно, но тщетно боролись властные книжники во имя аскетического идеала. И гр. Толстой не может сказать, что это грубое, конечно, но все-таки искусство, и притом народное искусство «не оценивалось вовсе». Нет, очень оценивалось, одною частью населения – положительно, другою – резко отрицательно. Могут возразить, что оно оценивалось теми и другими не по тому, насколько оно доставляло наслаждение, а по тому, насколько оно выражало чувства, вытекающие из религиозного сознания – языческого, с одной стороны, и христианского – с другой. Здесь есть доля истины, но не следует ведь забывать и то признаваемое самим гр. Толстым «огромное поле искусства», независимое от религиозного сознания, которое будто бы «не оценивалось вовсе». И, во всяком случае, неверно, значит, то положение гр. Толстого, что «всегда, во всякое время и во всяком человеческом обществе есть общее всем людям этого общества религиозное сознание того, что хорошо и что дурно». Допетровская Россия, на которую гр. Толстой указывает как на один из примеров, подтверждающих это правило, являет собою, напротив, один из резких случаев его опровержения. Тут-то именно мы и видим борьбу двух религиозных сознаний, языческого и христианского, и своеобразное отражение этой борьбы на судьбах искусства, которое отнюдь не укладывается в теоретические рамки, придуманные гр. Толстым.
Гр. Толстой много говорит о христианском смирении и кротости, об уважении к мнениям 9/10 или 99/100 или вообще очень большой дроби человечества. Вот, например, как он говорит о себе в подстрочном примечании на стр. 105: «Представляя образцы искусства, которое я считаю лучшим, я не придаю особенного веса своему выбору, так как я, кроме того, что недостаточно сведущ во всех родах искусства, принадлежу к сословию людей с извращенным ложным воспитанием вкусом. И потому могу, по старым усвоенным привычкам, ошибаться, принимая за абсолютное достоинство то впечатление, которое произвела на меня вещь в моей молодости. Называю же я образцы произведений того и другого рода (мы сейчас увидим, что разумеет гр. Толстой под двумя родами хорошего искусства) только для того, чтобы больше уяснить свою мысль, показать, как я при теперешнем своем взгляде понимаю достоинство искусства по содержанию. Притом еще должен заметить, что свои художественные произведения я причисляю к области дурного искусства за исключением рассказа „Бог правду видит“, желающего принадлежать к первому роду, и „Кавказского пленника“, принадлежащего ко второму».
Приведя несколько образчиков современной декадентской поэзии, блистающей полной бессмысленностью, и признавая эту бессмысленность, гр. Толстой в смирении своем не решается, однако, осудить декадентское искусство: не имею, говорит, права. Нельзя, по его мнению, «причислять произведения этого искусства к безвкусному безумию». «Такое отношение к новому искусству совершенно неосновательно, потому что, во-первых, это искусство все более и более распространяется и уже завоевало себе твердое место в обществе, – такое же, какое завоевал себе романтизм в 30-х годах; во-вторых, и главное, потому, что если можно судить так о произведениях позднейшего, так называемого декадентского, искусства только потому, что мы их не понимаем, то ведь есть огромное количество людей – весь рабочий народ, да и многие из нерабочего народа, которые точно так же не понимают те произведения искусства, которые мы считаем прекрасными: стихи наших любимых художников: Гете, Шиллера, Гюго, романы Диккенса, музыку Бетховена, Шопена, картины Рафаэля, Винчи и др.» (стр. 43–44).
Несмотря, однако, на все эти аллюры смирения и уважения к чужому мнению, едва ли найдется много людей, которые могли бы соперничать с гр. Толстым в надменной самоуверенности и нетерпимости. Самый деспотический произвол, беспощадный и жестокий, господствует во всех его новейших произведениях. Ему ничего не стоит любое явление жизни, как бы оно ни было значительно, изломать, изогнуть, совсем упразднить в угоду своей капризной мысли. Ни логичность доказательства, ни фактическая достоверность для него не обязательны, и было бы гораздо лучше, если бы он открыто отказался от той и другой и излагал свои мысли и чувства в виде афоризмов в повелительном наклонении, лирических стихотворений и т. п. Искусство, имеющее в виду наслаждение, «должно быть признано дурным искусством, которое не только не должно быть поощряемо, но должно быть изгоняемо, отрицаемо и презираемо» (стр. 106), – такова, собственно, основная мысль гр. Толстого. И решительность этого тона будит в нашей памяти образ Савонаролы{2}, не остановившегося перед публичным всесожжением предметов искусства, – картин, музыкальных инструментов и проч. – Но у гр. Толстого нет власти Савонаролы, а простым излиянием своих личных чувств, чувств человека, в свое время взявшего от жизни все, что можно взять, а затем отрекшегося от наслаждения, – он не довольствуется. И вот он мысленно совершает насилие над фактами исторической и современной действительности, обрекает ее на своего рода всесожжение. Он, по-видимому, чрезвычайно демократически приглашает нас прислушаться к голосу 9/10 или 99/100 человечества и смириться перед этим многомиллионным голосом. На самом же деле это его личный голос, и он, подобно Людовику XIV, утверждавшему, что l'etat c'est moi, мог бы сказать: 99/100 человечества – это я. Если бы, однако, Людовик XIV не ограничился своим афоризмом, а вздумал поддерживать его логической и фактической аргументацией, то, конечно, помимо прямой неправды, запутался бы еще и в противоречиях. С гр. Толстым это тем более должно было случиться, что он не открыто заявил: человечество, за исключением ничтожной горсти, – это я, а, так сказать, тайно положил эту мысль в основание своего рассуждения.